Салон в Вюртемберге - [11]
Но она не поднимала глаз. И Психея над ее головой тоже не смотрела на меня, как не смотрел и Амур. Эти двое переглядывались меж собой при свете лампы, чье пламя напоминало краткую вспышку молнии. Дело в том, что у нас в Бергхейме, на втором этаже, в гостиной с круглым эркером – как раз над диваном, где сидела мать, когда мы играли свои квинтеты, – висела огромная и весьма посредственная картина, изображавшая Амура и Психею; эта последняя стояла боком, почти спиной к зрителям, держа в вытянутой и явно дрожащей руке, как можно дальше от себя, масляную лампу, из которой капля горячего масла падала на прекрасное, но более субтильное тело ее божественного возлюбленного. Так вот: высокое, стройное, белоснежное тело девушки, четкий абрис ее округлых пышных грудей на темном фоне, испуганно откинутая назад головка и расширенные глаза, длинные трепещущие руки, простертые к телу бога, которого она предпочла рассмотреть однажды при свете лампы, нежели вечно наслаждаться его любовью в ночной тьме, весь облик этой Психеи (согласно мифу, обреченной превратиться в бабочку) чем-то напоминал мне мать или ассоциировался с ее обликом а позже, как мне кажется, и с обликом Изабель.
Изабель была несказанно красива; впрочем нет ничего труднее, чем передать другим ощущение красоты – а также молодости, – особенно если с тех пор прошло более двадцати лет и это тело, еще живое, стало совсем другим, пусть даже оно временами еще сливается с образом – или, скорее, не с самим образом, а с эмоциями, им вызванными, – который остался в памяти или который память воссоздала вновь.
Впервые я как следует разглядел Изабель в Сен-Жермен, в конце апреля или в начале мая, в холодный день с проливным дождем; над землей низко нависли облака, и тусклый свет напоминал осенний. Она стояла рядом с Флораном, высокая, блистательная, и выглядела каким-то неземным созданием, возникшим из дождевых струй. Обеими руками она придерживала развевающиеся полы просторного темно-синего английского плаща со слишком большим капюшоном, который уподоблял ее одеяние монашескому, хотя его темное дупло не скрывало нежно-розового, с перламутровым отблеском лица, пары огромных глаз, казавшихся еще шире то ли от света, то ли от мерцания дождя, и забрызганного дождевыми капельками носа. Сенесе коротко познакомил нас:
«Шарль, это Изабель».
«Здравствуйте», – сказала она и, притянув к себе мою голову, поцеловала в обе щеки.
Я стоял пораженный, неловко переминаясь с ноги на ногу и судорожно стягивая на шее коричневатое военное кашне.
«Флоран мне столько рассказывал о вас. Знаете, я даже начала его ревновать».
Ее глаза лучились каким-то необыкновенным сиянием. По розовому носу стекали капли дождя. Влажный и в то же время ледяной ветер буквально хлестал по лицу, больно сек кожу. Я пытался протереть глаза мокрой, закоченевшей рукой, словно хотел получше рассмотреть ее. А она начала не то покусывать, не то посасывать утолок нижней губы, – как я заметил позже, была у нее такая странная привычка. Ее голос отличался удивительно богатым тембром и почти светскими интонациями.
«О Флоран, пойдем скорей домой! – говорила она, улыбаясь мне. – Здесь так холодно. Я вымокла насквозь, как церковная кропильница!»
Флоран уже давно с умилением рассказывал мне об этой бесцеремонной манере – на мой взгляд, не такой уж неосознанной, как уверял Сенесе, – использовать ходячие выражения, искажая или вовсе выворачивая их наизнанку, притом с большим апломбом. И все же мне кажется, что она поступала так не нарочно: просто делала из своих невольных оговорок и ляпсусов орудие кокетства, хотя иногда ее высказывания звучали и впрямь довольно нелепо. Я глядел, как они уходят, сутулясь и тесно прижимаясь друг к другу под ледяным ветром. А ветер вдогонку облеплял ее ноги полами широкого синего плаща.
Изабель сама придумала себе уменьшительное имя – Ибель. Сенесе чаще всего звал ее именно так, иногда этим именем называла ее и Дельфина, Она вообще любила переименовывать все и всех на свете, и, честно говоря, эта мания надоедала, а то и обижала. Имена, которые мы носим, которые не выбирали, подобны коже, что растет вместе с нами, питаясь и наливаясь нашими соками. Мы рождаемся беззубыми, потом у нас появляются молочные зубы, потом они выпадают, – то же самое происходит с нашими волосами, с нашими усами и бородами, с нашими близкими, с иллюзиями. И только имена, они одни, остаются при нас до самой смерти. Впрочем, говорят, что и после нашей кончины они еще некоторое время витают в воздухе, напоминая об ушедших.
«Ну как поживают мои дорогие каледонцы?» – спрашивала она у своих родителей, когда звонила им из Сен-Жермен-ан-Лэ или когда они приезжали к ней в Пренуа; эта шутка – по-моему, крайне неудачная – означала, что они живут в Лон-ле-Сонье.[9] Вначале это уменьшительное – Ибель – постоянно напоминало мне имя Лизбет, и это сходство меня сильно коробило. Моя старшая сестра Элизабет жила в Кане и была замужем за другом нашего детства Ивоном Бюло, с которым мы встречались каждое лето на пляже Реньевилля, близ Кутанса. Лично я всегда считал нелепым и почти жестоким это намеренное искажение имен. Ребенком я недоумевал, почему меня зовут то Карлом, то Шарлем. Сестра Лизбет чаще всего звала меня Шарлем. Луиза, Цецилия и Маргарете – Карлом и даже просто Ка, да и Касилия переделала имя самой младшей сестры Маргарете в «Га» или «Марга», ко мне же обращалась не иначе как «майн Ка». Мать неизменно предпочитала имя Шарль. Я изобретал сложные ходы, стараясь понять, в какой момент мне выгоднее назваться Карлом, и мысленно составлял список преимуществ, которые можно было из этого навлечь. Но чаще всего я запутывался в своей, на самом деле нехитрой системе и «тонких» расчетах, объявляя себя Шарлем, когда нужен был Карл, и наоборот. Такая же нелепая и постоянная путаница происходила с Бергхеймами, которых было три – один во Франции, возле Верхнего Кенигсбура, в пятнадцати километрах от Кольмара, и два в Германии – на берегу Эрфта и на берегу Ягста. Это казалось мне дикой несуразицей. И выглядело тем более несправедливо, что самый маленький из них – хотя вряд ли самый безвестный – находился ближе всего к югу. В нем-то мы и жили. Не знаю, страдали ли мои сестры в той же мере, что и я, от искажения их имен. Мне трудно утверждать наверняка, но думаю, что Марге это не нравилось. Элизабет и Лизбет, Луиза и Люиза, Сесиль и Цецилия, Маргарете и Марга, Шарль и Карл – имена менялись очень легко, тем более легко, что смена имен объяснялась соглашением между мамой и папой, то есть устраивала окружающих, но не нас самих. Взяв перочинные ножички, мы вырезали свои имена на стволах старых буков и вязов – последние встречались крайне редко, – и ныне, вспоминая большой сад Бергхейма, я в первую очередь думаю не о деревьях, а о наших именах. Только не о буквах, процарапанных на коре, а о звуках, что составляли эти имена, произносимые чужими устами и оттого как бы материализованные, безжалостно врезанные в наши души и такие же реальные, как дыхание, вылетающее зимой изо рта белым облачком. Я до сих пор чувствую дискомфорт, стеснение при мысли об этом самоуправном и переменчивом «крещении». И еще мне иногда случается долго рассматривать какой-нибудь старый ствол – бука, вяза или дуба, – стоя в двадцати-тридцати шагах от него, со смутной уверенностью, что, вглядевшись хорошенько, я смогу увидеть… сам не знаю, что именно, – не лицо одной из сестер, и, уж конечно, не ее имя, и не фигуру, а нечто, возникающее из тайника, из-за куста, из-за угла старинного особняка, – совсем как в детстве при игре в прятки, когда все время кто-то чудится за деревом, где на самом деле никого нет (быть может, мои детские игры в прятки, или в веревочку, или в «найди предмет» перевоплотились в эти страницы?), и когда кричишь, топая ногой и призывая покинуть укрытие: «Эй, не жульничай! Я тебя видел! Давай выходи!» Мне и теперь кажется, будто я явственно вижу Маргу, Люизу, Цеци и Лизбет. И я кричу: «Выходи! Выходи!» Как будто можно вызвать из прошлого Изабель-Ибель, Дельфину или крошку Жюльетту. А впрочем, почему бы и нет, – нужно только долго-долго смотреть на самые толстые, самые мшистые деревья, окликая тех, кто давно уже мертв: Мадемуазель, Сенесе, Люизу, мою мать, Дидону или Понтия Пилата.

Паскаль Киньяр — блистательный французский прозаик, эссеист, переводчик, лауреат Гонкуровской премии. Каждую его книгу, начиная с нашумевшего эссе «Секс и страх», французские интеллектуалы воспринимают как откровение. Этому живому классику посвящают статьи и монографии, его творчество не раз становилось центральной темой международных симпозиумов. Книга Киньяра «Тайная жизнь» — это своеобразная сексуальная антропология, сотворенная мастером в волшебном пространстве между романом, эссе и медитацией.Впервые на русском языке!
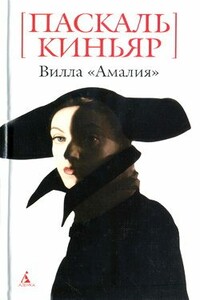
Паскаль Киньяр – один из крупнейших современных писателей, лауреат Гонкуровской премии (2002), блистательный стилист, человек, обладающий колоссальной эрудицией, знаток античной культуры, а также музыки эпохи барокко.После череды внушительных томов изысканной авторской эссеистики появление «Виллы „Амалия"», первого за последние семь лет романа Паскаля Киньяра, было радостно встречено французскими критиками. Эта книга сразу привлекла к себе читательское внимание, обогнав в продажах С. Кинга и М. Уэльбека.
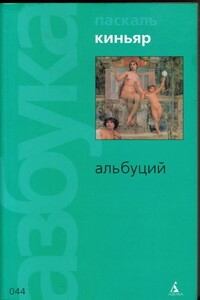
Эта книга возвращает из небытия литературное сокровище - сборник римских эротических романов, небезызвестных, но обреченных на долгое забвение по причинам морального, эстетического или воспитательного порядка. Это "Тысяча и одна ночь" римского общества времен диктатуры Цезаря и начала империи. Жизнь Гая Альбуция Сила - великого и наиболее оригинального романиста той эпохи - служит зеркалом жизни древнего Рима. Пятьдесят три сюжета. Эти жестокие, кровавые, сексуальные интриги, содержавшие вымышленные (но основанные на законах римской юриспруденции) судебные поединки, были предметом публичных чтений - декламаций; они весьма близки по духу к бессмертным диалогам Пьера Корнеля, к "черным" романам Донасьена де Сада или к объективистской поэзии Шарля Резникофф.
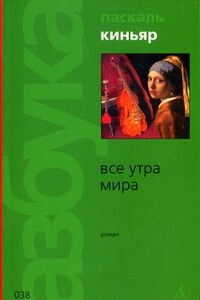
Паскаль Киньяр – один из крупнейших современных европейских писателей, лауреат Гонкуровской премии (2003), блестящий стилист, человек, обладающий колоссальной эрудицией, знаток античной культуры и музыки эпохи барокко.В небольшой книге Киньяра "Все утра мира" (1991) темы любви, музыки, смерти даны в серебристом и печальном звучании старинной виолы да гамба, ведь герои повествования – композиторы Сент-Коломб и Марен Марс. По мотивам романа Ален Корно снял одноименный фильм с Жераром Депардье.

Coca-Cola, джинсы Levi’s, журналы Life, а еще молодость и джаз, джаз… Тихий городок на Луаре еще не успел отдохнуть от немцев, как пришли американцы. В середине XX века во Франции появились базы НАТО, и эта оккупация оказалась серьезным испытанием для двух юных сердец. Смогут ли они удержать друг друга в потоке блестящих оберток и заокеанских ритмов?Паскаль Киньяр (1948), один из крупнейших французских писателей современности, лауреат Гонкуровской премии, создал пронзительную и поэтичную историю о силе и хрупкости любви.

Паскаль Киньяр — один из наиболее значительных писателей современной Франции. Критики признают, что творчество этого прозаика, по праву увенчанного в 2002 году Гонкуровской премией, едва ли поддается привычной классификации. Для его образов, витающих в волшебном треугольнике между философским эссе, романом и высокой поэзией, не существует готовых выражений, слов привычного словаря.В конце IV века нашей эры пятидесятилетняя патрицианка, живущая в Риме, начинает вести дневник, точнее, нечто вроде ежедневника.

«Песчаный берег за Торресалинасом с многочисленными лодками, вытащенными на сушу, служил местом сборища для всего хуторского люда. Растянувшиеся на животе ребятишки играли в карты под тенью судов. Старики покуривали глиняные трубки привезенные из Алжира, и разговаривали о рыбной ловле или о чудных путешествиях, предпринимавшихся в прежние времена в Гибралтар или на берег Африки прежде, чем дьяволу взбрело в голову изобрести то, что называется табачною таможнею…

Отчаянное желание бывшего солдата из Уэльса Риза Гравенора найти сына, пропавшего в водовороте Второй мировой, приводит его во Францию. Париж лежит в руинах, кругом кровь, замешанная на страданиях тысяч людей. Вряд ли сын сумел выжить в этом аду… Но надежда вспыхивает с новой силой, когда помощь в поисках Ризу предлагает находчивая и храбрая Шарлотта. Захватывающая военная история о мужественных, сильных духом людях, готовых отдать жизнь во имя высоких идеалов и безграничной любви.

1941 год. Амстердам оккупирован нацистами. Профессор Йозеф Хельд понимает, что теперь его родной город во власти разрушительной, уничтожающей все на своем пути силы, которая не знает ни жалости, ни сострадания. И, казалось бы, Хельду ничего не остается, кроме как покорится новому режиму, переступив через себя. Сделать так, как поступает большинство, – молчаливо смириться со своей участью. Но столкнувшись с нацистским произволом, Хельд больше не может закрывать глаза. Один из его студентов, Майкл Блюм, вызвал интерес гестапо.

Что между ними общего? На первый взгляд ничего. Средневековую принцессу куда-то зачем-то везут, она оказывается в совсем ином мире, в Италии эпохи Возрождения и там встречается с… В середине XVIII века умница-вдова умело и со вкусом ведет дела издательского дома во французском провинциальном городке. Все у нее идет по хорошо продуманному плану и вдруг… Поляк-филолог, родившийся в Лондоне в конце XIX века, смотрит из окон своей римской квартиры на Авентинский холм и о чем-то мечтает. Потом с риском для жизни спускается с лестницы, выходит на улицу и тут… Три персонажа, три истории, три эпохи, разные страны; три стиля жизни, мыслей, чувств; три модуса повествования, свойственные этим странам и тем временам.

Герои романа выросли в провинции. Сегодня они — москвичи, утвердившиеся в многослойной жизни столицы. Дружбу их питает не только память о речке детства, об аллеях старинного городского сада в те времена, когда носили они брюки-клеш и парусиновые туфли обновляли зубной пастой, когда нервно готовились к конкурсам в московские вузы. Те конкурсы давно позади, сейчас друзья проходят изо дня в день гораздо более трудный конкурс. Напряженная деловая жизнь Москвы с ее индустриальной организацией труда, с ее духовными ценностями постоянно испытывает профессиональную ответственность героев, их гражданственность, которая невозможна без развитой человечности.

«А все так и сложилось — как нарочно, будто подстроил кто. И жена Арсению досталась такая, что только держись. Что называется — черт подсунул. Арсений про Васену Власьевну так и говорил: нечистый сосватал. Другой бы давно сбежал куда глаза глядят, а Арсений ничего, вроде бы даже приладился как-то».