Сад, Фурье, Лойола - [5]
Итак, для садовской замкнутости характерна ожесточенность; эта замкнутость имеет двойственную функцию: прежде всего, разумеется, изолировать, спрятать разврат от карательных действий мира; однако же уединенность либертенов объясняется не только предосторожностью практического порядка; ей присуще своеобразное экзистенциальное качество, сладострастие бытия>2; следовательно, этой уединенности свойственна функционально бесполезная, но философски образцовая форма: даже под сенью наиболее испытанных убежищ в пространстве Сада всегда существует «тайное место», куда либертен приводит некоторых из своих жертв, вдаль от всякого, даже сообщнического, взгляда — где он необратимо одинок со своей жертвой — весьма необычная вещь в этом коммунитарном обществе; этот тайник, очевидно, является формальным, так как то, что там происходит, относясь к порядку пытки и преступления, практикам весьма откровенным в мире Сада, не имеет никакой нужды быть спрятанным; за исключением религиозного тайника у Сен-Фона, эти тайники дают лишь театральную форму одиночества: на некоторое время они десоциализируют преступление; в мире, насквозь пронизанном речами, они свершают редкостный парадокс: парадокс безмолвного действия; а поскольку у Сада не бывает ничего реального, кроме повествования, безмолвие тайника полностью совпадает с пробелом в повествовании: прерывается смысл. Аналогическим знаком этой «дыры» являются сами места тайников: как правило, это глубокие подвалы, склепы, подземелья, раскопки, расположенные в самом низу замков, садов, рвов; выбираться из тайников приходится в одиночестве, не говоря ни слова>3. Следовательно, тайник связан с путешествием в земные недра, теллурическая тема, которую Жюльетта наделяет смыслом в связи с вулканом Пьетра-Мала.
Замкнутость садического локуса обладает другой функцией: на ней основана социальная автаркия. Замкнувшись, либертены, их помощники и подданные сформировали целостное общество, наделенное своей экономикой, собственной моралью, особыми речью и временем, артикулированным в расписаниях, буднях и праздниках. Здесь, как и повсюду, именно замкнутость обеспечивает систему, т. е. работу воображения. Ближайшим эквивалентом Садовского града можно считать фурьеристский фаланстер: один и тот же проект изобрести во всех подробностях самодостаточный интернат для людей, одно и то же стремление отождествить счастье с завершенным и организованным пространством, одна и та же энергия, направленная на то, чтобы определять личностей согласно их функциям и упорядочивать ввод в игру подобных функциональных классов, тщательно продумав их задействование; одна и та же забота об учреждении экономии страстей, словом, одна и та же «гармония» и одна и та же утопия. Утопия Сада — как, впрочем, и утопия Фурье — измеряется в гораздо меньшей степени по теоретическим декларациям, чем по организации повседневной жизни, поскольку отличительной чертой утопии является повседневное; или иначе — все повседневное утопично: расписания, программы питания, проекты одежды, расстановка мебели, наставления, касающиеся бесед или общения — все это есть у Сада: садический город держится не только за счет «удовольствий», но и за счет потребностей; стало быть, возможно набросать этнографию деревни Сада.
Нам известно, что едят либертены. Мы знаем, например, что ранним утром 10 ноября, в Силлинге, господа подкрепились импровизированным завтраком (разбудили поварих), состоявшим из взбитых яиц, мяса газели шинкара, лукового супа и омлета. Эти подробности (и много других) даны не просто так. Пища у Сада представляет собой кастовый факт, а, следовательно, подлежит классификации. Иногда питание либертенов — признак роскоши, без которой не бывает либертинажа, и не потому, что роскошь сладострастна «сама по себе» — система Сада не просто гедонистична, — но потому, что необходимые для нее деньги обеспечивают разделение па богатых и бедных, на рабов и хозяев: «Я всегда хочу видеть на нем, — говорит Сен-Фон, передавая управление своим столом Жюльетте, — изысканнейшие блюда, редчайшие вина, в высшей степени необыкновенные плоды и дичь»; иногда же, что совсем иное — это признак чрезмерности, т. е. чудовищности: Минский, г-н де Жернанд (либертен, пускающий кровь жене раз в четыре дня) устраивают баснословные обеды, баснословность коих (десятки перемен блюд, сотни блюд, дюжина бутылок вина, две бутылки ликера, десять чашек кофе) свидетельствует о триумфальном складывании тела либертена. К тому же питание имеет две функции для хозяина.
С одной стороны, оно подкрепляет, оно компенсирует, возмещает чрезмерные затраты спермы, требуемые жизнью либертенов; не так много вечеров на предварялись трапезой и впоследствии не компенсировались какими-то «укрепляющими и восстанавливающими средствами», шоколадом и поджаренным хлебом с испанским вином. Так, Клервиль, устраивавшая головокружительные оргии, ограничивается «продуманным» режимом: она питается только принимающими замаскированные формы домашней птицей и дичью без костей; ее обычный напиток в любое время года — засахаренная и подмороженная вода, ароматизированная двадцатью каплями лимонной эссенции и двумя ложками воды с апельсиновым цветом. С другой стороны и наоборот — будучи поданной, пища служит для отравления, или по меньшей мере для нейтрализации: в шоколад Минского кладут дурман, чтобы усыпить его; в шоколад юного Розы и г-жи де Брессак подсыпают яд, чтобы убить их. Подкрепляющая или убивающая субстанция, шоколад в конечном итоге функционирует в качестве признака упомянутой двойственной экономии питания

Необходимость этой книги заключается в следующем соображении: любовная речь находится сегодня в предельном одиночестве. Речь эта, быть может, говорится тысячами субъектов (кто знает?), но ее никто не поддерживает; до нее нет дела окружающим языкам: они или игнорируют, или недооценивают, или высмеивают ее, она отрезана не только от власти, но и от властных механизмов (науки, знания, искусства). Когда какой-либо дискурс вот так, сам собой, дрейфует в сторону неактуального, за пределы всяких стадных интересов, ему не остается ничего иного, как быть местом, пусть сколь угодно ограниченным, некоего утверждения.
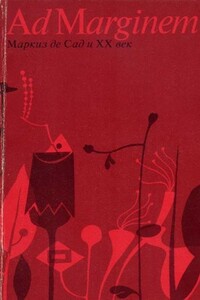
Литературное наследие маркиза де Сада (1740–1814) — автора нашумевших своей «непристойностью» романов «Жюстина», «120 дней Содома», «Жюльетта» и др. — оказало заметное влияние на становление современного литературного и философского языка, а сам «божественный маркиз» стал одной из ключевых фигур в сегодняшних спорах вокруг так называемого модернистского проекта, связанного с верой во всемогущество человеческого разума. Публикуемые в настоящем издании работы крупнейших мыслителей современной Франции (Ж.
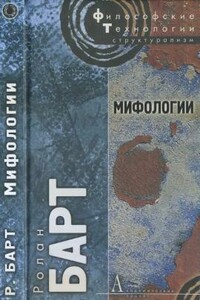
В середине 1950-х гг. Р. Барт написал серию очерков о «всеобщей» современной мифологизации. «Мифологии» представляют собой блестящий анализ современной массовой культуры как знаковой системы. По мнению автора, образ жизни среднего француза «пропитан» мифологизмами. В книге Р. Барт семиотически объясняет механизм появления политических мифов как превращение истории в идеологию при условии знакового оформления этого процесса. В обобщающей части работы Р. Барта — статье «Миф сегодня» предлагается и объяснение, и метод противостояния современному мифологизированию — создание новейшего искусственного мифа, конструирование условного, третьего уровня мифологии, если под первым понимать архаико-традиционную, под вторым — «новую» (как научный класс, например, советскую)

Структурализм и постструктурализм — союзники или соперники? Каковы взаимосвязи между поэтикой русской формальной школы и новейшей структурной поэтикой? И в чем суть постструктуралистского «разрушения поэтики»? Почему, едва пережив стремительный взлет, французский структурализм испытал столь же стремительное увядание, уступив место философии и практике «децентрации»? И отчего Ролан Барт, в 60-е годы единодушно признанный главой сциентистской «новой критики», в следующем десятилетии прославился уже как мэтр антисциентистской «семиологии множественности»? Чем «структура» отличается от «произведения» и «произведение» — от «текста»? Почему произведение подавляет свой текст, а текст стремится вырваться из под власти произведения? Что такое постструктуралистская «множественность без истины»?Отвечая на эти вопросы, составитель обратился к «золотому веку» французской гуманитарии, включив в книгу классические работы Кл.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
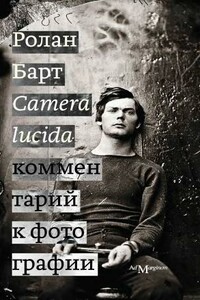
«Camera lucida. Комментарий к фотографии» (1980) Ролана Барта — одно из первых фундаментальных исследований природы фотографии и одновременно оммаж покойной матери автора. Интерес к случайно попавшей в руки фотографии 1870 г. вызвал у Барта желание узнать, благодаря какому существенному признаку фотография выделяется из всей совокупности изображений. Задавшись вопросом классификации, систематизации фотографий, философ выстраивает собственную феноменологию, вводя понятия Studium и Punctum. Studium обозначает культурную, языковую и политическую интерпретацию фотографии, Punctum — сугубо личный эмоциональный смысл, позволяющий установить прямую связь с фотоизображением.http://fb2.traumlibrary.net.

«История западной философии» – самый известный, фундаментальный труд Б. Рассела.Впервые опубликованная в 1945 году, эта книга представляет собой всеобъемлющее исследование развития западноевропейской философской мысли – от возникновения греческой цивилизации до 20-х годов двадцатого столетия. Альберт Эйнштейн назвал ее «работой высшей педагогической ценности, стоящей над конфликтами групп и мнений».Классическая Эллада и Рим, католические «отцы церкви», великие схоласты, гуманисты Возрождения и гениальные философы Нового Времени – в монументальном труде Рассела находится место им всем, а последняя глава книги посвящена его собственной теории поэтического анализа.
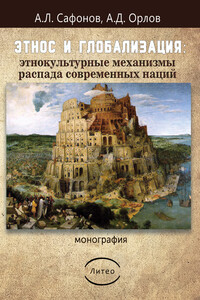
Монография посвящена одной из ключевых проблем глобализации – нарастающей этнокультурной фрагментации общества, идущей на фоне системного кризиса современных наций. Для объяснения этого явления предложена концепция этно– и нациогенеза, обосновывающая исторически длительное сосуществование этноса и нации, понимаемых как онтологически различные общности, в которых индивид участвует одновременно. Нация и этнос сосуществуют с момента возникновения ранних государств, отличаются механизмами социогенеза, динамикой развития и связаны с различными для нации и этноса сферами бытия.
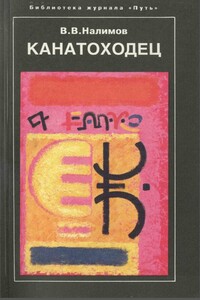
Воспоминания известного ученого и философа В. В. Налимова, автора оригинальной философской концепции, изложенной, в частности, в книгах «Вероятностная модель языка» (1979) и «Спонтанность сознания» (1989), почти полностью охватывают XX столетие. На примере одной семьи раскрывается панорама русской жизни в предреволюционный, революционный, постреволюционный периоды. Лейтмотив книги — сопротивление насилию, борьба за право оставаться самим собой.Судьба открыла В. В. Налимову дорогу как в науку, так и в мировоззренческий эзотеризм.

В монографии впервые в литературоведении выявлена и проанализирована на уровне близости философско-эстетической проблематики и художественного стиля (персонажи, жанр, композиция, наррация и др.) контактно-типологическая параллель Гессе – Набоков – Булгаков. На материале «вершинных» творений этих авторов – «Степной волк», «Дар» и «Мастер и Маргарита» – показано, что в межвоенный период конца 1920 – 1930-х гг. как в русской, метропольной и зарубежной, так и в западноевропейской литературе возник уникальный эстетический феномен – мистическая метапроза, который обладает устойчивым набором отличительных критериев.Книга адресована как специалистам – литературоведам, студентам и преподавателям вузов, так и широкому кругу читателей, интересующихся вопросами русской и западноевропейской изящной словесности.The monograph is a pioneering effort in literary criticism to show and analyze the Hesse-Nabokov-Bulgakov contact-typoligical parallel at the level of their similar philosophical-aesthetic problems and literary style (characters, genre, composition, narration etc.) Using the 'peak' works of the three writers: «The Steppenwolf», «The Gift» and «The master and Margarita», the author shows that in the «between-the-wars» period of the late 20ies and 30ies, there appeard a unique literary aesthetic phenomenon, namely, mystic metaprose with its stable set of specific criteria.

Книга представляет читателю великого итальянского поэта Данте Алигьери (1265–1321) как глубокого и оригинального мыслителя. В ней рассматриваются основные аспекты его философии: концепция личности, философия любви, космология, психология, социально-политические взгляды. Особое внимание уделено духовной атмосфере зрелого средневековья.Для широкого круга читателей.
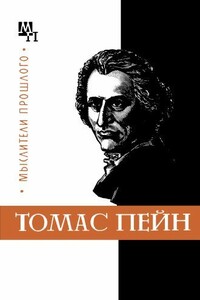
Книга дает характеристику творчества и жизненного пути Томаса Пейна — замечательного американского философа-просветителя, участника американской и французской революций конца XVIII в., борца за социальную справедливость. В приложении даются отрывки из важнейших произведений Т. Пейна.