Сад, Фурье, Лойола - [3]
Удовольствие от Текста подразумевает и дружественное возвращение автора. Возвращающийся автор — разумеется, не тот, что был идентифицирован нашими институтами (история и преподавание литературы и философии, дискурс Церкви); к тому же это и не герой биографии. Автор, который выходит из своего текста и входит в нашу жизнь, не обладает единством; это просто множественное число «чарований», место каких-то мелких деталей, но все-таки источник живых романных огоньков, прерывистая песнь любезностей, в которой мы, однако же, вычитываем смерть с большей непреложностью, нежели в какой-то эпопее судьбы; это не личность (гражданская, моральная), это тело. При выделении какой-либо ценности, производимой удовольствием от Текста, из жизни Сада мне в голову приходит не зрелище, хотя и грандиозное, человека, угнетенного целым обществом из-за огня, который он носит в себе, и не суровое созерцание судьбы; среди прочего, это тот провансальский способ, каким Сад говорил «милли» вместо «мадемуазель»: милли Руссе, или милли Анриетта, или милли Лепинэ; это его белая муфта, когда он ухаживал за Розой Келлер, его последние игры с маленькой шарантонской белошвейкой (что меня восхищает в белошвейке, так это белье); из жизни Фурье мне на ум приходит его любовь к мирлитонам (парижские пирожки со специями), запоздалая симпатия к лесбиянкам, смерть среди горшков с цветами; у Лойолы — не паломничества, видения, умерщвление плоти и уставы святого, но только «его прекрасные глаза, всегда немного в слезах». Ибо если необходимо, чтобы благодаря окольной диалектике в Тексте, разрушающем всякий субъект, возникал субъект любви, — то субъект этот рассеян, что немного напоминает пепел, который разбрасывают по ветру после смерти (теме урны и стелы, предметов крепких, замкнутых, учреждающих судьбу, противостоят проблески воспоминания, эрозия, оставляющая из прошедшей жизни лишь несколько складок): если бы я был писателем — и мертвым, — как бы я хотел, чтобы моя жизнь, заботами дружественного и развязного биографа, свелась к нескольким деталям, к нескольким привязанностям, к нескольким модуляциям, скажем — к «биографемам», отличительные черты и подвижность которых могли бы попадать за пределы всякой судьбы и соприкасаться — подобно атомам Эпикура — с каким-то будущим телом, обетованным одному и тому же рассеянию; в сущности, жизнь продырявленная, подобная той, которую Пруст сумел описать в своем произведении, или еще старомодный фильм, в котором отсутствует всякая речь, а поток образов (тот flumen orationis, в котором, может быть, и состоит «свинство» письма) обрезается, как при целебной икоте, чернотой, на которой кое-как написаны титры, развязным вторжением другого означающего: белой муфты Сада, цветочных горшков Фурье, испанских глаз Игнатия.
«Только скучающим людям потребна иллюзия», — говорил Брехт. Удовольствие от чтения гарантирует истинность этого высказывания. Читая тексты, а не произведения, пытаясь просвечивать их таким ясновидением, которое будет разыскивать не их секрет, «содержание», философию, но только счастье от их письма, я могу надеяться, что оторву Сада, Фурье и Лойолу от того, чего у них следует опасаться (религия, утопия, садизм); я пытаюсь рассеять речи о морали, произносившиеся о каждом из них, или избежать таких речей; работая только над языками, как делали они, я отрываю тексты от движений, их гарантирующих (от социализма, веры, зла). Тем самым я обязываюсь (таков, по меньшей мере, теоретический замысел этих эссе) сместить (но не отменить; может быть, даже подчеркнуть) социальную ответственность текста. Некоторые полагают, будто с полной уверенностью могут указать место подобной ответственности: дескать, это автор, вставка соответствующего автора в его время, его историю, его класс. Между тем загадочным остается другое место, пока не поддающееся какому бы то ни было прояснению: место чтения. Это затемнение происходит в тот самый момент, когда мы больше всего порицаем буржуазную идеологию, так никогда и не спрашивая, из какого места мы говорим о ней или против нее: пространство ли это не-дискурса («не будем же говорить и писать, будем сражаться»), или пространство контрдискурса («будем говорить против классовой культуры»), но в таком случае из каких черт, из каких фигур, из каких рассуждений, из каких остатков культуры оно состоит? Полагать, будто против идеологии можно вести невинные речи, все равно что продолжать верить, будто язык может быть лишь нейтральным орудием торжествующего содержания. В действительности сегодня в языке нет мест, внешних по отношению к буржуазной идеологии: наш язык происходит от нее, возвращается к ней, остается в ней замкнутым. Единственная возможная реакция — не сопоставление и не разрушение, но только кража: оторвать старый текст от культуры, науки, литературы и разбросать его черты согласно неузнаваемым формулам совершенно так же, как подкрашивают украденный товар. Итак, имея дело со старым текстом, я пытаюсь стереть ложное социологическое, историческое или субъективное изобилие детерминаций, воззрений, проекций; я вслушиваюсь в порыв, содержащийся в message'e, а не в сам message, я вижу в тройственном произведении победоносное развертывание текста означающего, текста террористического, отделяя от него, словно ненужную шкуру, «готовый» смысл, репрессивный (либеральный) дискурс, непрестанно стремящийся вернуться к тексту. Вмешательство текста в социальные дела (не обязательно свершающееся в эпоху появления этого текста) не измеряется ни популярностью его у его аудитории, ни верностью социально-экономических отражений, которые вписываются в него или которые он проецирует для нескольких социологов, стремящихся использовать его, — но измеряется, скорее, насилием, позволяющим ему
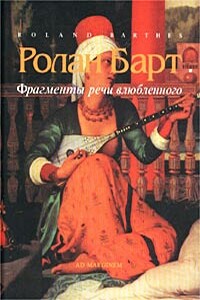
Необходимость этой книги заключается в следующем соображении: любовная речь находится сегодня в предельном одиночестве. Речь эта, быть может, говорится тысячами субъектов (кто знает?), но ее никто не поддерживает; до нее нет дела окружающим языкам: они или игнорируют, или недооценивают, или высмеивают ее, она отрезана не только от власти, но и от властных механизмов (науки, знания, искусства). Когда какой-либо дискурс вот так, сам собой, дрейфует в сторону неактуального, за пределы всяких стадных интересов, ему не остается ничего иного, как быть местом, пусть сколь угодно ограниченным, некоего утверждения.
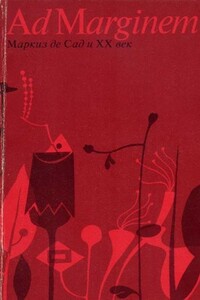
Литературное наследие маркиза де Сада (1740–1814) — автора нашумевших своей «непристойностью» романов «Жюстина», «120 дней Содома», «Жюльетта» и др. — оказало заметное влияние на становление современного литературного и философского языка, а сам «божественный маркиз» стал одной из ключевых фигур в сегодняшних спорах вокруг так называемого модернистского проекта, связанного с верой во всемогущество человеческого разума. Публикуемые в настоящем издании работы крупнейших мыслителей современной Франции (Ж.
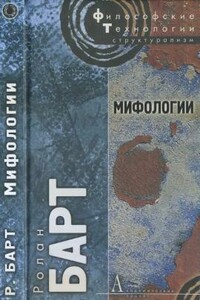
В середине 1950-х гг. Р. Барт написал серию очерков о «всеобщей» современной мифологизации. «Мифологии» представляют собой блестящий анализ современной массовой культуры как знаковой системы. По мнению автора, образ жизни среднего француза «пропитан» мифологизмами. В книге Р. Барт семиотически объясняет механизм появления политических мифов как превращение истории в идеологию при условии знакового оформления этого процесса. В обобщающей части работы Р. Барта — статье «Миф сегодня» предлагается и объяснение, и метод противостояния современному мифологизированию — создание новейшего искусственного мифа, конструирование условного, третьего уровня мифологии, если под первым понимать архаико-традиционную, под вторым — «новую» (как научный класс, например, советскую)
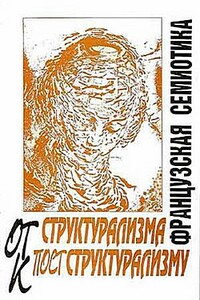
Структурализм и постструктурализм — союзники или соперники? Каковы взаимосвязи между поэтикой русской формальной школы и новейшей структурной поэтикой? И в чем суть постструктуралистского «разрушения поэтики»? Почему, едва пережив стремительный взлет, французский структурализм испытал столь же стремительное увядание, уступив место философии и практике «децентрации»? И отчего Ролан Барт, в 60-е годы единодушно признанный главой сциентистской «новой критики», в следующем десятилетии прославился уже как мэтр антисциентистской «семиологии множественности»? Чем «структура» отличается от «произведения» и «произведение» — от «текста»? Почему произведение подавляет свой текст, а текст стремится вырваться из под власти произведения? Что такое постструктуралистская «множественность без истины»?Отвечая на эти вопросы, составитель обратился к «золотому веку» французской гуманитарии, включив в книгу классические работы Кл.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
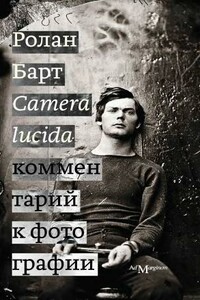
«Camera lucida. Комментарий к фотографии» (1980) Ролана Барта — одно из первых фундаментальных исследований природы фотографии и одновременно оммаж покойной матери автора. Интерес к случайно попавшей в руки фотографии 1870 г. вызвал у Барта желание узнать, благодаря какому существенному признаку фотография выделяется из всей совокупности изображений. Задавшись вопросом классификации, систематизации фотографий, философ выстраивает собственную феноменологию, вводя понятия Studium и Punctum. Studium обозначает культурную, языковую и политическую интерпретацию фотографии, Punctum — сугубо личный эмоциональный смысл, позволяющий установить прямую связь с фотоизображением.http://fb2.traumlibrary.net.

Монография посвящена одной из ключевых проблем глобализации – нарастающей этнокультурной фрагментации общества, идущей на фоне системного кризиса современных наций. Для объяснения этого явления предложена концепция этно– и нациогенеза, обосновывающая исторически длительное сосуществование этноса и нации, понимаемых как онтологически различные общности, в которых индивид участвует одновременно. Нация и этнос сосуществуют с момента возникновения ранних государств, отличаются механизмами социогенеза, динамикой развития и связаны с различными для нации и этноса сферами бытия.

Воспоминания известного ученого и философа В. В. Налимова, автора оригинальной философской концепции, изложенной, в частности, в книгах «Вероятностная модель языка» (1979) и «Спонтанность сознания» (1989), почти полностью охватывают XX столетие. На примере одной семьи раскрывается панорама русской жизни в предреволюционный, революционный, постреволюционный периоды. Лейтмотив книги — сопротивление насилию, борьба за право оставаться самим собой.Судьба открыла В. В. Налимову дорогу как в науку, так и в мировоззренческий эзотеризм.

В монографии впервые в литературоведении выявлена и проанализирована на уровне близости философско-эстетической проблематики и художественного стиля (персонажи, жанр, композиция, наррация и др.) контактно-типологическая параллель Гессе – Набоков – Булгаков. На материале «вершинных» творений этих авторов – «Степной волк», «Дар» и «Мастер и Маргарита» – показано, что в межвоенный период конца 1920 – 1930-х гг. как в русской, метропольной и зарубежной, так и в западноевропейской литературе возник уникальный эстетический феномен – мистическая метапроза, который обладает устойчивым набором отличительных критериев.Книга адресована как специалистам – литературоведам, студентам и преподавателям вузов, так и широкому кругу читателей, интересующихся вопросами русской и западноевропейской изящной словесности.The monograph is a pioneering effort in literary criticism to show and analyze the Hesse-Nabokov-Bulgakov contact-typoligical parallel at the level of their similar philosophical-aesthetic problems and literary style (characters, genre, composition, narration etc.) Using the 'peak' works of the three writers: «The Steppenwolf», «The Gift» and «The master and Margarita», the author shows that in the «between-the-wars» period of the late 20ies and 30ies, there appeard a unique literary aesthetic phenomenon, namely, mystic metaprose with its stable set of specific criteria.

Книга представляет читателю великого итальянского поэта Данте Алигьери (1265–1321) как глубокого и оригинального мыслителя. В ней рассматриваются основные аспекты его философии: концепция личности, философия любви, космология, психология, социально-политические взгляды. Особое внимание уделено духовной атмосфере зрелого средневековья.Для широкого круга читателей.

Книга дает характеристику творчества и жизненного пути Томаса Пейна — замечательного американского философа-просветителя, участника американской и французской революций конца XVIII в., борца за социальную справедливость. В приложении даются отрывки из важнейших произведений Т. Пейна.
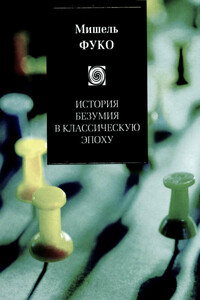
Книга известного французского философа Мишеля Фуко (1926–1984) посвящена восприятию феномена безумия в европейской культуре XVII–XIX вв. Анализируя различные формы опыта безумия — институт изоляции умалишенных, юридические акты и медицинские трактаты, литературные образы и народные суеверия, — автор рассматривает формирование современных понятий `сумасшествие` и `душевная болезнь`, выделяющихся из характерного для классической эпохи общего представления о `неразумии` как нарушении социально — этических норм.