Сад, Фурье, Лойола - [4]
Июнь 1971
Примечания>*
1. Лойола — всего-навсего название деревни. Я знаю, что следовало бы говорить Игнатий, или Игнатий де Лойола, но позволяю говорить об этом авторе так, как я всегда называл его для себя; подлинное имя писателя неважно: он получил имя не по правилам ономастики, но из трудовой общины, в какую был принят.
2. «Сад I» опубликован в Tel Quel, № 28, hiver 1967, под заглавием «Древо преступления» [L'arbre du crime], и в XVI томе Полного собрания сочинений Сада, Cercle du Livre Précieux, 1967, p. 509–532. «Лойола» опубликован в Tel Quel, № 38, été 1969, под заглавием «Как говорить с Богом?» [Comment parler à Dieu?], и должен служить введением к «Духовным упражнениям» [Exercices spirituels], в переводе Жана Риста [Jean Ristat], выходит в издательстве Christian Bourgois, collection 10 X 18. «Фурье» частично вышел в Critique, № 281, octobre 1970, под заглавием «Жить с Фурье» [Vivre avec Fourier]. В эти тексты внесено несколько исправлений. «Сад II», часть текста о Фурье и «Жизнь» [Vie] Сада пока не изданы.
3. Издания, на которые делаются ссылки, таковы: D. A. F. Sade, Œuvres complètes, Paris, Cercle du Livre précieux, 1967, 16 volumes. Charles Fourier, Œuvres complètes, Paris, édition Anthropos, 1967, 11 volumes. Ignace de Loyola, Exercices spirituels, traduction de François Courel, Desclée de Brouwer, 1963, a также Journal spirituel, traduction de Maurice Giuliani, Desclée de Brouwer, 1959.
4. Сведения, упомянутые в «Жизнях», взяты из вторых рук. Что касается Сада, они почерпнуты из его монументальной биографии, написанной Жильбером Лели [Gilbert Lély] (Paris, Cercle du Livre précieux, 1966, tomes I, И) и из Неизданного дневника (Journal inédit) Сада, с предисловием Жоржа Дома [Georges Daumas], Paris, Gallimard, collection «Idées» (livre de poche), 1970. Относительно Фурье эти сведения почерпнуты из предисловий Симоны Дебу-Олешкевич [Simone Debout-Oleszkiewicz] к I и VII тому ПСС Фурье [Œuvres complètes de Fourier, Paris, Anthropos, 1967).
5. Я отказался писать «Жизнь» Лойолы. Причина в том, что я не мог бы написать ее в соответствии с кратко очерченными в предисловии принципами биографии; у меня недоставало важного материала. Эта скудость является исторической, а, следовательно, у меня не было никаких оснований маскировать ее. Фактически существует два типа агиографии: агиография «Золотой легенды» (XV век)>1 в значительной степени позволяет означающему вторгаться на сцену и заполнять ее (означающее здесь — тело, претерпевшее мученичество); агиография же Игнатия — современная — отвергает это самое тело: мы знаем только о заплаканных глазах этого святого и о его прихрамывании. В первой книге история жизни основана на сказанном о теле; во второй — на не сказанном; следовательно, разрыв экономии и знака, отмеченный во множестве других сфер на стыке Средневековья и Нового времени, проходит и через литературу о святости. По ту (или по сю) сторону знака, направляясь к означающему, мы ничего не знаем о жизни Игнатия де Лойолы.
Рамон Алехандро соблаговолил нарисовать для этой книги зал заседаний в замке Силлинг. Я благодарю его.
Сад I>*
В некоторых романах Сада много путешествуют. Жюльетта проезжает (сея разорение на своем пути) по Франции, Савойе, Италии вплоть до Неаполя; вместе с Бриза-Тестой мы попадаем в Сибирь и Константинополь. Путешествие — тема, легко приобретающая характер инициации; однако же, хотя «Жюльетта» начинается с темы ученичества, садовское путешествие ничему не учит (разнообразие нравов отсылается в рассуждения Сада, где оно служит доказательству того, что добродетель и порок — совершенно локальные идеи); происходит ли действие в Астрахани, в Анжере, в Неаполе или в Париже, города фигурируют лишь как поставщики участников оргий, сельская местность — как убежища для разврата, сады — как его декор, а климаты — как операторы сладострастия>1; везде одна и та же география, одно и то же население, одни и те же функции; важно встретиться не с более или менее экзотическими случайностями, а с повторением одной и той же сущности, сущности преступления (впредь будем подразумевать под этим словом пытки и разврат). Итак, если садические путешествия разнообразны, то садический локус является единственным: путешествуют только для того, чтобы запереться. Моделью садовского локуса служит Силлинг, принадлежащий Дюрсе замок в самой гуще Шварцвальда, где четыре либертена из «120 дней Содома» запираются на четыре месяца с сералем. Этот замок герметически изолирован от мира чередой препятствий, весьма похожих на те, что мы встречаем в некоторых волшебных сказках: деревушкой угольщиков-контрабандистов (не пропускающих никого), крутой горой, головокружительной пропастью, через которую можно переправиться только по мосту (который либертены прикажут разрушить сразу после того, как запрутся), стеной высотой в десять метров, глубоким рвом с водой, воротами, которые либертены замуруют сразу после того, как войдут в них, наконец, ужасающими сугробами.
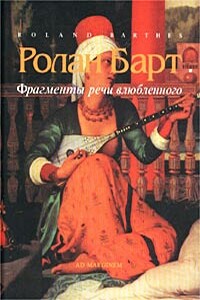
Необходимость этой книги заключается в следующем соображении: любовная речь находится сегодня в предельном одиночестве. Речь эта, быть может, говорится тысячами субъектов (кто знает?), но ее никто не поддерживает; до нее нет дела окружающим языкам: они или игнорируют, или недооценивают, или высмеивают ее, она отрезана не только от власти, но и от властных механизмов (науки, знания, искусства). Когда какой-либо дискурс вот так, сам собой, дрейфует в сторону неактуального, за пределы всяких стадных интересов, ему не остается ничего иного, как быть местом, пусть сколь угодно ограниченным, некоего утверждения.
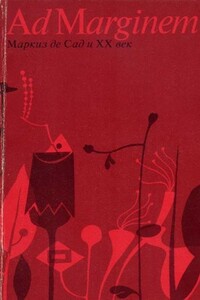
Литературное наследие маркиза де Сада (1740–1814) — автора нашумевших своей «непристойностью» романов «Жюстина», «120 дней Содома», «Жюльетта» и др. — оказало заметное влияние на становление современного литературного и философского языка, а сам «божественный маркиз» стал одной из ключевых фигур в сегодняшних спорах вокруг так называемого модернистского проекта, связанного с верой во всемогущество человеческого разума. Публикуемые в настоящем издании работы крупнейших мыслителей современной Франции (Ж.
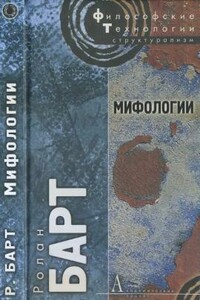
В середине 1950-х гг. Р. Барт написал серию очерков о «всеобщей» современной мифологизации. «Мифологии» представляют собой блестящий анализ современной массовой культуры как знаковой системы. По мнению автора, образ жизни среднего француза «пропитан» мифологизмами. В книге Р. Барт семиотически объясняет механизм появления политических мифов как превращение истории в идеологию при условии знакового оформления этого процесса. В обобщающей части работы Р. Барта — статье «Миф сегодня» предлагается и объяснение, и метод противостояния современному мифологизированию — создание новейшего искусственного мифа, конструирование условного, третьего уровня мифологии, если под первым понимать архаико-традиционную, под вторым — «новую» (как научный класс, например, советскую)
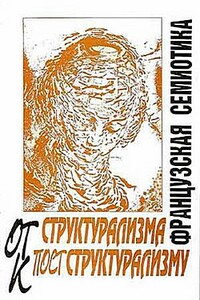
Структурализм и постструктурализм — союзники или соперники? Каковы взаимосвязи между поэтикой русской формальной школы и новейшей структурной поэтикой? И в чем суть постструктуралистского «разрушения поэтики»? Почему, едва пережив стремительный взлет, французский структурализм испытал столь же стремительное увядание, уступив место философии и практике «децентрации»? И отчего Ролан Барт, в 60-е годы единодушно признанный главой сциентистской «новой критики», в следующем десятилетии прославился уже как мэтр антисциентистской «семиологии множественности»? Чем «структура» отличается от «произведения» и «произведение» — от «текста»? Почему произведение подавляет свой текст, а текст стремится вырваться из под власти произведения? Что такое постструктуралистская «множественность без истины»?Отвечая на эти вопросы, составитель обратился к «золотому веку» французской гуманитарии, включив в книгу классические работы Кл.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
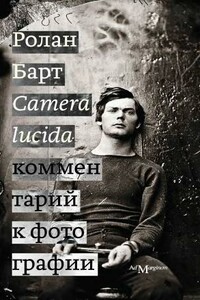
«Camera lucida. Комментарий к фотографии» (1980) Ролана Барта — одно из первых фундаментальных исследований природы фотографии и одновременно оммаж покойной матери автора. Интерес к случайно попавшей в руки фотографии 1870 г. вызвал у Барта желание узнать, благодаря какому существенному признаку фотография выделяется из всей совокупности изображений. Задавшись вопросом классификации, систематизации фотографий, философ выстраивает собственную феноменологию, вводя понятия Studium и Punctum. Studium обозначает культурную, языковую и политическую интерпретацию фотографии, Punctum — сугубо личный эмоциональный смысл, позволяющий установить прямую связь с фотоизображением.http://fb2.traumlibrary.net.

Монография посвящена одной из ключевых проблем глобализации – нарастающей этнокультурной фрагментации общества, идущей на фоне системного кризиса современных наций. Для объяснения этого явления предложена концепция этно– и нациогенеза, обосновывающая исторически длительное сосуществование этноса и нации, понимаемых как онтологически различные общности, в которых индивид участвует одновременно. Нация и этнос сосуществуют с момента возникновения ранних государств, отличаются механизмами социогенеза, динамикой развития и связаны с различными для нации и этноса сферами бытия.

Воспоминания известного ученого и философа В. В. Налимова, автора оригинальной философской концепции, изложенной, в частности, в книгах «Вероятностная модель языка» (1979) и «Спонтанность сознания» (1989), почти полностью охватывают XX столетие. На примере одной семьи раскрывается панорама русской жизни в предреволюционный, революционный, постреволюционный периоды. Лейтмотив книги — сопротивление насилию, борьба за право оставаться самим собой.Судьба открыла В. В. Налимову дорогу как в науку, так и в мировоззренческий эзотеризм.

В монографии впервые в литературоведении выявлена и проанализирована на уровне близости философско-эстетической проблематики и художественного стиля (персонажи, жанр, композиция, наррация и др.) контактно-типологическая параллель Гессе – Набоков – Булгаков. На материале «вершинных» творений этих авторов – «Степной волк», «Дар» и «Мастер и Маргарита» – показано, что в межвоенный период конца 1920 – 1930-х гг. как в русской, метропольной и зарубежной, так и в западноевропейской литературе возник уникальный эстетический феномен – мистическая метапроза, который обладает устойчивым набором отличительных критериев.Книга адресована как специалистам – литературоведам, студентам и преподавателям вузов, так и широкому кругу читателей, интересующихся вопросами русской и западноевропейской изящной словесности.The monograph is a pioneering effort in literary criticism to show and analyze the Hesse-Nabokov-Bulgakov contact-typoligical parallel at the level of their similar philosophical-aesthetic problems and literary style (characters, genre, composition, narration etc.) Using the 'peak' works of the three writers: «The Steppenwolf», «The Gift» and «The master and Margarita», the author shows that in the «between-the-wars» period of the late 20ies and 30ies, there appeard a unique literary aesthetic phenomenon, namely, mystic metaprose with its stable set of specific criteria.

Книга представляет читателю великого итальянского поэта Данте Алигьери (1265–1321) как глубокого и оригинального мыслителя. В ней рассматриваются основные аспекты его философии: концепция личности, философия любви, космология, психология, социально-политические взгляды. Особое внимание уделено духовной атмосфере зрелого средневековья.Для широкого круга читателей.

Книга дает характеристику творчества и жизненного пути Томаса Пейна — замечательного американского философа-просветителя, участника американской и французской революций конца XVIII в., борца за социальную справедливость. В приложении даются отрывки из важнейших произведений Т. Пейна.
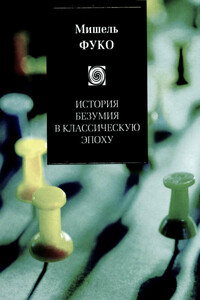
Книга известного французского философа Мишеля Фуко (1926–1984) посвящена восприятию феномена безумия в европейской культуре XVII–XIX вв. Анализируя различные формы опыта безумия — институт изоляции умалишенных, юридические акты и медицинские трактаты, литературные образы и народные суеверия, — автор рассматривает формирование современных понятий `сумасшествие` и `душевная болезнь`, выделяющихся из характерного для классической эпохи общего представления о `неразумии` как нарушении социально — этических норм.