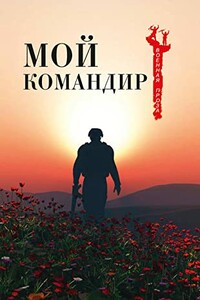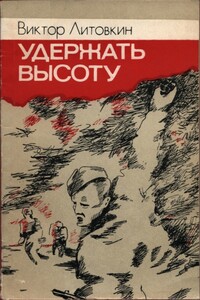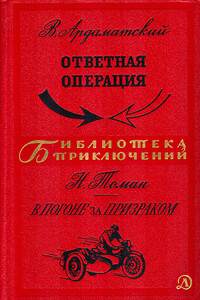Возле водоразборной колонки валялась разбитая, забрызганная кровью пролетка, узлы, чемоданы и мертвая лошадь с вытекшим глазом.
Виктория набрала воды и, торопясь, побежала обратно. Но как раз в это время над площадью снова появились бомбардировщики, раздался свист, от которого тоскливо замерло сердце, и где-то совсем рядом ударила и разлетелась на тысячи грохотов бомба. Воздушной волной Викторию отбросило в сторону и осыпало удушливой пылью. А когда она поднялась, то увидела, как рушится высокая стена ее дома.
Не обращая внимания на грозящую ей опасность, она бросилась к развалинам, которые уже пылали, и по обвалившейся лестнице спустилась в подвал. Навстречу ей из темноты ползли люди, слышался плач детей и стоны раненых. Она зажгла спичку и сразу же увидела сына. Нет, она увидела лишь его ноги, в серых коротких штанишках. Голова и грудь мальчика были придавлены тяжелым опрокинувшимся ящиком, на котором еще недавно сидела женщина, на руки которой Виктория передала сына. Эта женщина лежала рядом, и кровь тоненькой струйкой ползла у нее по щеке. Виктория с трудом оттащила ящик, подняла сына и выбежала на улицу. Она побежала к реке, мимо горящих домов, опаленных бульваров, по разбитой, растерзанной улице. Туда же, обгоняя ее, бежали люди с узлами, корзинками, чемоданами. Некоторые были одеты по-зимнему, другие, наоборот, слишком легко. Из разбитого госпиталя ползли раненые в одном белье. За ними волочились ленты окровавленных бинтов. Виктория и сама не знала, куда бежала она, только бы убежать от этого ужаса разрушения и смерти. А бомбы все рвались, и земля под ногами дрожала. Над городом клубились пепельно-багровые тучи дыма. Сквозь этот дым на землю глядело тусклое солнце.
Виктория споткнулась и упала, не выпуская сына из рук. Она хотела подняться и не могла. Из подъезда ближнего дома выбежал коренастый моряк в полосатой тельняшке и брезентовых рабочих брюках. Он поднял Викторию и хотел помочь ей пройти в укрытие, но она отказалась:
— Нет, я туда не пойду, — и какими-то двориками опять побежала к реке.
На набережной, возле кафе, похожего на китайскую пагоду, и на площади, против пылающих пристаней, где высоко над рекой стоял памятник известному летчику, собирались бойцы с пулеметами, автоматами. Лица у бойцов были серые, хмурые, как дымное небо. Виктория подбежала к ним и, не будучи в силах крепиться дальше, громко и горько заплакала. Неутешное горе через край переполнило ей сердце.
Солдаты глядели на нее с сочувствием и как-то даже виновато, и один из них, высокий худощавый, с русоватой бородкой и, очевидно, близорукими голубыми глазами, мягко сказал ей:
— Успокойтесь, товарищ.
— Да разве можно успокоиться?! — удивленно и гневно выкрикнула Виктория и протянула к ним похолодевшее тельце мальчика.
Третью неделю в городе шли бои. Многие дома и даже целые улицы были вовсе разрушены. Но защитники города держались упорно. Это был их последний рубеж…
Отделению старшего сержанта Цибенко было приказано закрепиться в четырехэтажном здании, стоявшем несколько особняком от других соседних домов и выходившем на небольшую площадь. Посередине ее когда-то был цветник и фонтан со скульптурой, изображавшей обнаженного мальчика, обнимавшего гуся. Теперь на месте этого цветника и фонтанчика земля была разворочена и обезображена, валялись битые кирпичи, скрученная железная арматура, куски алебастра.
На противоположной стороне площади, в развалинах домов, полукругом охватывавших площадь, были немцы. Они упорно стремились вырваться на широкую улицу, ведущую к Волге, но солдаты Цибенко, засевшие в угловом доме и державшие под обстрелом всю площадь, не давали им хода. Тогда немцы сосредоточили усилия на том, чтобы выбить этих солдат из дома или уничтожить их в нем.
Пули беспрерывно грызли кирпичную стену, залетали в проемы разбитых окон. По дому били из минометов. Половина крыши была уже сорвана, верхний, четвертый, этаж разбит, но обороняющиеся крепко засели на третьем этаже, не уходили, отстреливались.
Утром третьего дня в дом приполз старшина Бобыльков, принес патроны и хлеб. На разбитом полу, в простенке между проемами окон, лежали двое убитых. Третий, раненый, тихо стонал возле двери.
— Да-а! — протянул старшина, оглядев их. — Ну все равно. Приказано продержаться до завтрашнего утра, а там пришлют подкрепление.
— Понятно, — ответил Цибенко, маленький рябой украинец.
Старшина снова ушел.
Днем солдаты отбили пять жестоких атак, и к вечеру, после шестого отчаянного натиска, в доме остались лишь двое: боец Горюхин и старший сержант Цибенко. Остальные были убиты. Раненый умер.
Цибенко, раненный в голову, сначала храбрился и еще сам замотал голову бинтом из индивидуального пакета, но потом ему стало хуже, он начал бредить: то шептал нежные, ласковые слова, то выкрикивал злые ругательства. Горюхин уложил его в уголок, подостлав свою шинель, и сказал:
— Вот так будет ладно. Лежи!
С наружной стороны о стену защелкали пули, близко разорвались две мины, и Горюхин понял, что немцы сейчас снова пойдут. Он метнулся к окну и дал короткую очередь из ручного пулемета, потом перебежал к другому окну и, схватив лежавший здесь автомат, снова выстрелил. Перебегая от окна к окну, он стрелял даже не целясь. Ему казалось, что, стреляя из разных отдушин, он обманет противника, и немцы не догадаются, что в доме остался всего один человек.