Русский Бертольдо - [33]
Однако изучение рукописной народной книги традиционного содержания (четьего сборника, не утратившего своего влияния на читателя на всем протяжении восемнадцатого и даже в девятнадцатом столетии) приводит, казалось бы, к совершенно противоположному выводу. Суть его в том, что народное чтение развивалось своими консервативными путями, мало связанными со светской тенденцией в литературе. И тогда, считают исследователи, возможно, стоит «пересмотреть наше представление о народной культуре и народной книге на Руси, традиционно связывающихся с фольклорной, сатирической и юмористической струей»[386].
Как совместить эти две основанные на серьезном научном анализе точки зрения на русского низового читателя XVIII в., который, с одной стороны, якобы жадно интересовался всем тем новым и даже запретным, что было привнесено в русскую культуру Западом, а с другой — смертельно этого боялся?
На самом деле здесь имеет место не столько противоречие, сколько сложнейшая проблема комплексного изучения человека переходной эпохи, оказавшегося перед неизбежным выбором между «старым» и «новым», «своим» и «чужим»[387].
Русский читатель, каким бы «консервативным» он ни был, уже в XVII в. знакомится с отдельными образцами западноевропейской смеховой литературы[388], а к середине следующего столетия более или менее свободно ориентируется в новом, достаточно обширном репертуаре рекреативного чтения[389]. Все чаще (о чем свидетельствует сам этот репертуар) ему в руки попадает увлекательный плутовской роман. То же подтверждают современники:
<…> ныне любезные наши граждане, не боятся за сие [т. е. за чтение неподобающих книг] пустаго древняго анафемическаго грому, не только благородный, но средняго и низкаго степени люди, а особливо купечество весьма охотно во чтении всякаго рода книг упражняются, с которыми я, имея не редкое обхождение, слыхал, как некоторые из них молодые люди, читая переведенную с Немецкаго языка книжку о Французском мошеннике Картуше, удивлялись мошенническим его делам, говоря при этом, будто у нас в России как подобных ему мошенников, так и других приключений достойных любопытнаго примечания не бывало[390].
Образ «нового» героя-плута, который смеется по-новому, предпочитая быть хозяином положения и всеми правдами и неправдами отвоевывать себе место под солнцем, скорее импонировал русскому читателю, чем его отталкивал. Ведь и сам он был теперь не тот, что прежде, как не без горечи признают приверженцы «доброй старины»:
Мы сделали страмной промен, променяючи бороду, которую мы нашивали тому полтораста лет, так и все наши добросердечие и нашу природную доброту, на пригожия мушки, на грубость и на плутовство[391].
Действительно, в России «Жиль Блаз»[392] популярностью не уступал самому «Телемаку»[393], которого в XVIII в. называли «непревзойденным».
Под каким же углом зрения читали в низовой среде роман Кроче в восемнадцатом и даже в девятнадцатом столетии? Это помогают понять в первую очередь записи, оставленные на полях рукописей теми, в чьи руки попадали русские переводы «Бертольдо». Для нас важно, насколько эти свидетельства отражают некоторые общие тенденции.
Прежде всего бросается в глаза, что все русские читатели упорно называли Бертольдо шутом (что, на самом деле, соответствует его архетипу), не придавая значения тому, что формально он был все-таки не шутом, а царским советником. Бертольдо назван шутом в записи безымянного читателя университетской рукописи[394]. Другой список 1740-х годов — «Гистория о Бертолде»[395] — получил от одного из читателей, экономического крестьянина д. Потаповки Калязинского уезда Григория Слоботскова, уточненное название: «История о Бердолде царском шуте»[396]. Тем же почерком на листе 87 об. еще раз подчеркивался шутовской статус героя: «Сия книга история славнаго шута Бердолда которой привлекал человек, как в опросах, так и в ответах». В фольклорном сознании обе эти роли — шут и царский советник — близки или, точнее, одна подразумевает другую. То, что шутов, которые смертельно враждовали между собой, в тексте оказывалось двое — Бертольдо и настоящий придворный шут Фагот, — русского читателя, по-видимому, не смущало. Он легко находил этому объяснение: один шут царский, другой царицын («шут, которой при царице стоял»). Именно так, следуя традиционной логике древнерусского литературного канона, выраженного в оппозиции «добрый царь» — «злая царица», расставил акценты один из переписчиков «Бертольдо»[397].
Переписчики рукописей — совершенно особая категория, их смело можно причислить к наиболее активным читателям. Чаще всего они оставались безымянными, но для нас это не означает — безличными. Прежде всего о них свидетельствуют сами рукописи: внешним видом, почерком, исправлениями, редакторскими маргиналиями и ремарками на полях. Текст, который они, казалось бы, просто копировали, на самом деле говорит о многом, являясь подчас единственным полноценным источником. Нередко в процессе работы над рукописью между переписчиком (заинтересованным читателем) и текстом устанавливалась особого рода эмоциональная связь, сродни творческому вдохновению
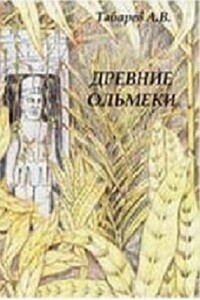
В книге рассказывается об истории открытия и исследованиях одной из самых древних и загадочных культур доколумбовой Мезоамерики — ольмекской культуры. Дается характеристика наиболее крупных ольмекских центров (Сан-Лоренсо, Ла-Венты, Трес-Сапотес), рассматриваются проблемы интерпретации ольмекского искусства и религиозной системы. Автор — Табарев Андрей Владимирович — доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН. Основная сфера интересов — культуры каменного века тихоокеанского бассейна и доколумбовой Америки;.

Грацианский Николай Павлович. О разделах земель у бургундов и у вестготов // Средние века. Выпуск 1. М.; Л., 1942. стр. 7—19.

Монография составлена на основании диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук, защищенной на историческом факультете Санкт-Петербургского Университета в 1997 г.
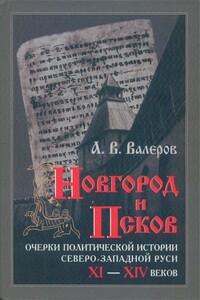
В монографии освещаются ключевые моменты социально-политического развития Пскова XI–XIV вв. в контексте его взаимоотношений с Новгородской республикой. В первой части исследования автор рассматривает историю псковского летописания и реконструирует начальный псковский свод 50-х годов XIV в., в во второй и третьей частях на основании изученной источниковой базы анализирует социально-политические процессы в средневековом Пскове. По многим спорным и малоизученным вопросам Северо-Западной Руси предложена оригинальная трактовка фактов и событий.
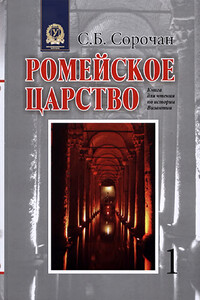
Книга для чтения стройно, в меру детально, увлекательно освещает историю возникновения, развития, расцвета и падения Ромейского царства — Византийской империи, историю византийской Церкви, культуры и искусства, экономику, повседневную жизнь и менталитет византийцев. Разделы первых двух частей книги сопровождаются заданиями для самостоятельной работы, самообучения и подборкой письменных источников, позволяющих читателям изучать факты и развивать навыки самостоятельного критического осмысления прочитанного.

"Предлагаемый вниманию читателей очерк имеет целью представить в связной форме свод важнейших данных по истории Крыма в последовательности событий от того далекого начала, с какого идут исторические свидетельства о жизни этой части нашего великого отечества. Свет истории озарил этот край на целое тысячелетие раньше, чем забрезжили его первые лучи для древнейших центров нашей государственности. Связь Крыма с античным миром и великой эллинской культурой составляет особенную прелесть истории этой земли и своим последствием имеет нахождение в его почве неисчерпаемых археологических богатств, разработка которых является важной задачей русской науки.

Настоящая книга является первой попыткой создания всеобъемлющей истории русской литературной критики и теории начиная с 1917 года вплоть до постсоветского периода. Ее авторы — коллектив ведущих отечественных и зарубежных историков русской литературы. В книге впервые рассматриваются все основные теории и направления в советской, эмигрантской и постсоветской критике в их взаимосвязях. Рассматривая динамику литературной критики и теории в трех основных сферах — политической, интеллектуальной и институциональной — авторы сосредоточивают внимание на развитии и структуре русской литературной критики, ее изменяющихся функциях и дискурсе.

Книга известного литературоведа посвящена исследованию самоубийства не только как жизненного и исторического явления, но и как факта культуры. В работе анализируются медицинские и исторические источники, газетные хроники и журнальные дискуссии, предсмертные записки самоубийц и художественная литература (романы Достоевского и его «Дневник писателя»). Хронологические рамки — Россия 19-го и начала 20-го века.

В книге рассматриваются индивидуальные поэтические системы второй половины XX — начала XXI века: анализируются наиболее характерные особенности языка Л. Лосева, Г. Сапгира, В. Сосноры, В. Кривулина, Д. А. Пригова, Т. Кибирова, В. Строчкова, А. Левина, Д. Авалиани. Особое внимание обращено на то, как авторы художественными средствами исследуют свойства и возможности языка в его противоречиях и динамике.Книга адресована лингвистам, литературоведам и всем, кто интересуется современной поэзией.

Если рассматривать науку как поле свободной конкуренции идей, то закономерно писать ее историю как историю «победителей» – ученых, совершивших большие открытия и добившихся всеобщего признания. Однако в реальности работа ученого зависит не только от таланта и трудолюбия, но и от места в научной иерархии, а также от внешних обстоятельств, в частности от политики государства. Особенно важно учитывать это при исследовании гуманитарной науки в СССР, благосклонной лишь к тем, кто безоговорочно разделял догмы марксистско-ленинской идеологии и не отклонялся от линии партии.