Ревизия - [7]
В. Как Вы смело рассуждаете за товарища Сталина.
О. Я тогда так думал. После того, как на убийстве Кирова Ежов на первый план вышел, я понял, что товарищ Сталин коренную реформацию затеял. Я поэтому и троцкистско-зиновьевский заговор раздувать стал, думал, что в одном оркестре пою. Думал, что процессы тридцать шестого года мне за прощение зачтут. Я ведь верой и правдой…
В. Когда Вам стало понятно, что Вас подозревают в государственной измене?
О. Когда Ежова моим замом назначили. Намёк размером с аршин — конец тебе пришёл, приятель. У меня первая мысль была — за кордон вырваться, у нас некоторые каналы были, на Латинскую Америку, на Австралию. Кривицкий[1] этим вопросом занимался. Я осторожно почву прозондировал и отказался от этой идеи. Найдут ведь, рано или поздно. Те же парни Кривицкого и пристрелят как собаку. Я запаниковал тогда, ошибки начал совершать.
В. Например?
О. Решил с Трилиссером[2] отношения возобновить. Предложил сделку — я возвращаю его в руководство наркомата, а он организует устранение Ежова. Под Трилиссером лаборатория по изготовлению ядов находилась, по линии Коминтерна, план был медленно, в течении нескольких месяцев, кабинет Ежова ртутными парами отравлять. Глупо, конечно, я и говорю, запаниковал я тогда. Трилиссер меня же и сдал потом, мне это сам товарищ Ежов сказал после ареста.
В. Отравление кабинета Ежова действительно имело место?
О. Точно я не знаю, но думаю, что Трилиссер обманул меня. Мы с ним по рукам ударили буквально за месяц до того, как меня с должности наркома внутренних дел сняли. Он (Трилиссер) хотел на стульчике в сторонке сидеть и смотреть, кто победит. Я и сам тогда надеялся, что эти тучи вокруг меня — аппаратные игры. Отгремит буря, рассосётся всё, успокоится. Так ведь было уже в середине двадцатых, когда драка в партии с оппозицией небывалая происходила. Я признаться, думал, местечко всё же найдётся для меня, я кадр опытный, с заслугами, зачем же меня вот так по асфальту размазывать.
В. Расскажите о Ваших взаимоотношениях с секретарём Горького Крючковым.
О. Ну, он давно был моим сексотом, не последнюю скрипку сыграл в возвращении Горького из Италии на Родину. Пронырливый человек, с полуслова мысль ухватывал. Когда я женой Макса[3] заинтересовался, как мужчина, он Макса активно отвлекал на разные пьянки-гулянки.
В. Вы давали поручение Крючкову довести сына Горького до летального исхода?
О. Прямого поручения не давал. Я уже сказал, Крючков быстро соображал, что надо и кому. Пока Макс пьянствовал, у меня была возможность Тимошу[4] утешать. А то, что Макс по пьянке простудился и заболел воспалением лёгких, то не злой умысел, а роковая случайность.
В. Какие ещё поручения Вы давали Крючкову?
О. Больше никаких.
В. Вы недоговариваете…
О. Вы об этом разговоре с Крючковым о жертве Горького? Был такой разговор, кажется, в ноябре тридцать пятого года, у меня на даче в Озерках. Крючков пьяный был в дребадан. Начал бросать какие-то дурацкие намёки, что некие круги, то ли эмигрантские, то ли немецкие, на Западе готовы на меня сделать ставку. Мол, от меня требуется показать, что я хороший мальчик, чтобы красивую жертву сделал, шумную, мол, сталинский режим довёл великого человека. «Старик-то у нас совсем плох», — таращил на меня пьяные глаза Крючков. Я, признаться, этой болтовне значения не придал. С какими там кругами Крючков знаком может быть, окололитературный печенег, ничтожество, строго говоря. Не серьёзно это, так большие дела не делаются.
В. Вы отрицаете вероятность убийства Горького? Странно, на суде вы утверждали другое, что давали указание врачам на неправильное лечение товарища Горького.
О. Да причём здесь суд. Мне что велели говорить, я то и говорил. Однозначно, никакой необходимости в убийстве Горького не было. Старик действительно и так был плох, особенно после смерти сына. Я точно знаю, он просился уехать за границу, от товарища Сталина этого добивался, Сталин отвечал уклончиво. Не жилец был Горький, никаких причин приближать естественную смерть не было.
В. Хорошо. Когда Вы установили контакт с Караханом[5]?
О. В начале тридцать шестого года. Я тогда в полном тупике находился. Было ясно, что меня сожрут с потрохами, как только процессы над троцкистами пройдут. Выбросят за ненадобностью, крупно повезет, если не расстреляют. Ежов держался со мной ровно, вежливо, это похуже, чем когда кричат. Карахан тогда замкоминдела был и посол в Турции по совместительству, важная персона, вот у кого действительно обширные связи на Западе были, так это у него.
В. Делал ли Вам какие-то предложения Карахан?
О. Поначалу это были разговоры. Надо сказать, что Карахан положение в стране верно оценивал. Он так и сказал через некоторое время: «Если будет мировая война, а она будет, вопрос считанных лет, наши шансы на победу ничтожны». «И что же делать?» — спросил я. «А что в таких случаях делают евреи, товарищ генеральный комиссар государственной безопасности?» — сказал Карахан. «Евреи все разные, — ответил я. — Это только в головах у сионистов один народ. Что до моего высокого звания, думаете, не понимаю, что это просто кость, которую кинули цепному псу. Захотят отобрать, отберут». «Вы знаете, я в Китае долго работал, — сказал Карахан.- Так там над этой монгольской поговоркой: „Коней на переправе не меняют“ всегда посмеиваются, а что ещё нищим монголам делать, если лошадь одна». «Если речь идёт о Троцком, — сказал я. — Я на сбитых лётчиков не ставлю». «Я тоже за реальных людей, — сказал Карахан. — Пусть Троцкий папуасов на свою перманентную революцию вдохновляет. Этим любая услада хороша, лишь бы по лесам с пулемётом бегать. А лучше пусть умные книжечки пишет, про красный термидор, почитаем, посмеёмся. Мы с Вами люди взрослые, хотелось бы человеческой жизнью пожить».
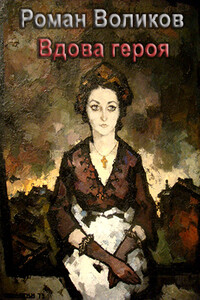
Людей неинтересных в мире нет, их судьбы – как истории планет. У каждой все особое, свое, и нет планет, похожих на нее. А если кто-то незаметно жил и с этой незаметностью дружил, он интересен был среди людей самой неинтересностью своей.
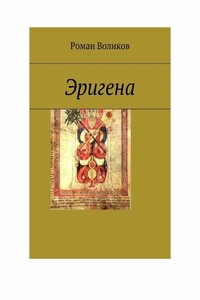
Повесть-расследование, посвященная обстоятельствам смерти великого философа Иоанна Скотта Эригены (1X век нашей эры)
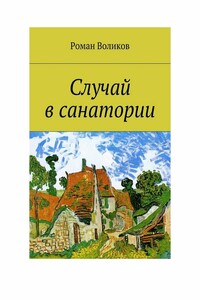
Отпуск следователя прокуратуры неожиданно превратился в расследование клубка преступлений в провинциальном санатории.

Бог, что считает минуты и деньги,бог, отчаявшийся, похотливый и хрюкающий, что валяется брюхом кверху и всегда готов ластиться – вот он, наш повелитель. Падём же друг другу в объятия.

Другая правда Великой Отечественной Войны. История Локотской республики на оккупированной территории Орловской области.

Роман переносит читателя в глухую забайкальскую деревню, в далекие трудные годы гражданской войны, рассказывая о ломке старых устоев жизни.
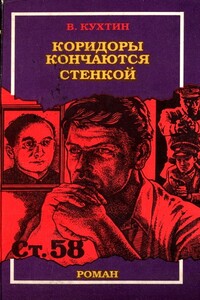
Роман «Коридоры кончаются стенкой» написан на документальной основе. Он являет собой исторический экскурс в большевизм 30-х годов — пору дикого произвола партии и ее вооруженного отряда — НКВД. Опираясь на достоверные источники, автор погружает читателя в атмосферу крикливых лозунгов, дутого энтузиазма, заманчивых обещаний, раскрывает методику оболванивания людей, фальсификации громких уголовных дел.Для лучшего восприятия времени, в котором жили и «боролись» палачи и их жертвы, в повествование вкрапливаются эпизоды периода Гражданской войны, раскулачивания, расказачивания, подавления мятежей, выселения «непокорных» станиц.

Новый роман известного писателя Владислава Бахревского рассказывает о церковном расколе в России в середине XVII в. Герои романа — протопоп Аввакум, патриарх Никон, царь Алексей Михайлович, боярыня Морозова и многие другие вымышленные и реальные исторические лица.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
