Река Лажа - [22]
Я забыл свой циутр, пояснил Аметист на обратной дороге к машине, просто решил, что сегодня он не пригодится, но случилась ошибка; это приспособленье нехитрое и беззатратное в деле; другой раз непременно им вооружусь. Здесь же он, осмелев, попросил у майора раскрыть ему координаты других называвшихся мойщиком мест, чтобы самостоятельно произвести там работу и не отнимать его время, но Почаев, прокашлявшись, высказался в отрицательном смысле и посуровел. Птицын предположил про себя, что майор или кто-то еще из причастных слепневскому делу не желает, чтоб штатский в лиловой ветровке докопался до скользких болотных мощей в одиночку, уйдя от надзора, даже если его интерес в этом случае малопонятен. Аметист уронил нехорошее «понял» (что ты понял, жучило смешное, досказал за майора беззвучно, и сам замрачнел) и, в отмщенье стараясь казаться как можно неблагонадежней, объявил, что до дома сумеет добраться пешком. Заявленья его, было видно, никак не смутили майора; отпрощавшись без рук, маловеры в «хендае» не без бултыханий прорвались на просеку, шум их скоро растаял, Аметист же остался один в обозримом пространстве. В голове расплывалась широкая, ровная тяжесть. Лес, запаренный, неотдышавшийся, без большого участия разглядывал Птицына, не признавая в нем части природы. Вывалившись из календаря гостевых и домашних боев «Млыничанки», Аметист ощущал себя несуществующим. Действие его жизни, гонимой с футбольных полей в коридоры редакций и спорткомитета, оргалитом прогорклым обшитые, и затем выдуваемой вновь к кромке поля, арене свирепых подкатов и ругани женской, самого его волновало постольку-поскольку, почти не всерьез, но привязка к такому порядку сама по себе принималась им как посошок и подспорье. Аметист был бумажный боец без каких-либо знаков различий, раскраски и пудры, и его позвоночник был так же на деле нетверд, как хитиновый панцирь любой из его авторучек. Невесомость его положения, ничтожность задач и практическая невозможность какого-либо реноме в местном корреспондентском кругу превращали его в умолчанье, фигуру отсутствия, что казалось ему отвечавшим его историческим чаяниям. В «Колокольне» он сиживал с Мартовым, грузным и широколицым, будто бы перенявшим у Глодышева небольшое проклятье безбрачия, по безделью поигрывавшим в GTA на служебном компе и всегдашне приветливым с Птицыным, чья узкокостная кисть исчезала в их рукопожатье подобно какой-нибудь сорной рыбешке. Пятна чая, обжившие мартовский стол вкруг мышиного коврика, эксгумировали школьную географию. Пономарь был представлен напротив в амбаровской цианотипии, облеченный растянутою водолазкой, при наждачной щетине и редкой, но здесь неожиданно щедрой улыбке, задевающей зашлого Птицына явным вселенством своим, неприкрытой всеобщностью: пономарь, зафиксированный на своей не объезженной женщиной кухне в полугоде от смерти, улыбался решительно всем и всему, и глаза его, знавшие сроки конца, были бессодержательно-благостны, как у округлых святых католической церкви. В тот же самый отрезок он дважды являлся писаться в «Культурный дозор», но беседы в итоге прирезали и не пустили в эфир; обе записи были, однако, заботливо сохранены и предложены Дороховым Аметисту при знакомстве на мероприятье редевших как класс короленок, куда Птицын зашел для массовки, а Дорохов по разнарядке от радио. Предводитель «Дозора», внушительный бархатный pater, бесконечно и неутомимо любил Иисуса и последовательно старался составить с ним внешнее сходство, взяв, как виделось Птицыну, для образца Симона Ушакова мечтательных Спасов с расщепленными надвое бородами. Он светился спокойством и смуглым теплом свежевыпеченной монастырской ковриги, говорил будто бы нараспев, поводя-помогая большими плечами, был разведчик и резчик по дереву (это дело открылось с поездкой в Годеново — говорилось «Годэново» — к тамошнему размашистому за стеклянной преградой распятью, обретенному много столетий назад пастухами: возвратился и прямо на кухне ножом, прямо из на балконе покинутой чурки давнишней начал что-то кроить-выскребать, пока не распорол большой палец и не проявилась ненужная кровь, но занятья такого не бросил и полгода упрямой вечерней работы спустя водрузил невозбранно в домашней молельне троекратно ужатую копию животворящего ставроса, освященную должным порядком). Оцифрованный им пономарь пролежал в Аметистовом «Асусе» месяц и месяц еще прежде, чем атташе «Млыничанки» решился услышать учителев голос — дело было к зиме (впрочем, всё и всегда, замечал Аметист, здесь к зиме: и каштановый цвет, и брусника, и громы июля, и болотные желтые ирисы — все, все к зиме), его женщины завершили сезон с никому не отрадною бронзой, тренировки на базе стремились к нулю, до весны предстояло сидеть на коротком окладе, предлагая себя на подмогу в косимые заболеваниями обе редакции, и тогда-то подарок гривастого Дорохова наконец был развернут. За два месяца бессознательных приготовлений Птицын вырастил мненье в себе, что провидческий Глодышев приберегал для него нечто личное и направляющее, что ему одному предстоит различить и составить на этой основе свой жизненный план, но в обеих беседах густой пономарь, мало перемежаемый дороховскими вкрапленьями, не оставил ему ничего для догадки и тайны. Глодышев говорил, широко загребая слова, сам себе с непременным азартом перечил, прорицал, и посмеивался, и могуче дышал, распаляясь, — соответствовал вроде бы лучшим своим образцам, но внимательный Птицын не мог не расслышать в нем старческой мстительной склочности, неприличной отрыжки от прежних обид. Пономарь нападал на соцсети за ложность сближений, как и за распыление воли, объявлял непристойной всевыложенность и легконаходимость, презирал комментаторство и оползанье культуры письма; млынский форум, засиженный неповоротливыми, но упертыми троллями, обзывал сифилярием и, раз представился случай, приглашал санэпидконтролеров района проверить сомнительный сервер: пусть наш СЭС наконец к ним отправит своих белоснежных — изсэсовских — штурмовиков. Сеть была для него вся пропитана заговором и изменой: роковая распаянность, вечно гвоздимая им, у него на глазах извращенно мутировала, развивая в себе озабоченный синдикализм, подменявший родство панибратством и стайностью, объявляя примат интересов над мукой идеи, как и видимости над незримым. С хладнокровием прежних анатомов пономарь прозревал в мировой паутине преддверие ада, одного из возможных, не худших, но явно из самых безвыходных. Убежденность его в несомненной опасности нагроможденья сомнительных творческих выбросов и в возможности черной культурной дыры вследствие накопленья критической массы оглашалась им так беспощадно, что Птицын убавил звучок. Он догадывался, что не знавшийся с их предстоятелем реципиент расценил бы речения Глодышева как сектантскую взбалмошную логорею, и такая догадка была утешительна: пономарь как бы сам ограничил круг тех, кто бы мог отнестись к его страхам серьезно и живо, и сам Птицын по всем ощущениям числился в этом коротком кругу. Аметист был солдатом распущенной армии, белочехом и каппелевцем, хуже — оруженосцем зарытого гранда, и, наверно, подобная роль была лучшей из тех, что могла бы ему предложить равнодушная Млынь, если б Млынь вообще предлагала хоть что-то. Во втором интервью однократно обжегшийся Дорохов постарался, как мог, развернуть собеседника в некоторый конструктив и попробовал выжать из пономаря его соображения по ответственной организации всех автохтонов пред лицом продолжающегося упадка реальности и восхода химер. Аметист изготовился было составить конспект для подпольной рассылки по ящикам города (оставался к тому же пример незабвенного Кирика Озерова, а к верстальщикам Птицын был вхож), но из записи было отчетливо ясно, что его пономарь более не желал, чтобы кто-нибудь спасся, не советуя даже молитв. Этим будто бы вновь подтверждалась тождественность Глодышева персонажам порядка Ионы и Иеремии, как и он, не разменивавшихся в своих обращеньях на подобные инструктажи, — в самом деле, смирился на том Аметист, все, что нам надлежало услышать, было сказано очень давно, десять с лишним тому, и еще десять лет повторялось, дробилось, расслаивалось и мельчало, пока не перетерлось в песок и не смылось совсем. У большого художника трудного млынского слова Глодышева Н. Н. больше не было ни настроенья, ни силы втолковывать и обращать; Птицын слушал вотще, подперев подбородок двумя кулаками. Пономарь, без сомнения, звучал здесь лиричнее и сострадательней: теребил, наклонясь, за загривок измятого уличным прозябанием пса, сто раз битого, сбитого, ломаного, недоверчивого, с позаплывшими белою мутью глазами. Накануне конца своих дней, словно бы в предвкушенье его, Глодышев торопливо выпрастывал то, что он все колокольные годы считал неуместным в колонке редактора: безупречно подробную жалость к подопечным когда-то подписанных им и истлевших уже тиражей. Если б Глодышев мог выбирать, он назначил бы им и себе нищету еще горшую, брение и безнадежье, но вдобавок снабдил бы подопытных развитой тягой к хоровому содружеству и спонтанному обобществленью предметов помятого быта, гомерическим битвам в лото и решительным самосудам — эта трогательная полпотчина представлялась ему здоровей государственно прививаемой ветки делячества и всеобщего кредитованья. Пономарь бесконечно склонялся над городом и шнурками бетонок, привязанными СНТ, узнавая уже боковым сонм поднявшихся лажинских вод, полыхание звероподобного облака и вострящих ужасные стрелы крылатых карателей. Он жалел располневших до стыдности, гипертонических, но обескровленных женщин, подворовывающих с живых производств в нижбелье и минующих в страхе взыскательную проходную; и внушающих им этот трепет надсмотрщиц с иссохшими лицами, неумех и нерях, с волосами в извечный пучок, по двенадцать часов изнывающих в будках своих, где начальственно запрещены «дедективы», сканворды и всякое свободомыслие; и наседок рентгенкабинетов, говорящих отснятым «свободен»; и отпетых сестер ЦРБ, в городском просторечье зовомой еще Мясорубка, вымогающих за внеурочный укол обезболивающего; и подванивающих старух на приборке в Успенской и Тихвинской, полукружьями желтых и гречневых ломких ногтей с бормотаньем сковыривающих потеки с подсвечников; и раскрашенных сосок из торгового техникума, щелкающих бесцельно самсунговскими раскладушками; и кассирш из «Магнита», с усердием курицы, роющей землю, забивающих пальцами в свой аппарат нечитающиеся штрих-коды; и ресепшионисток из загородных резиденций, перестроенных из пионерлагерей, белозубых утянутых горлиц, привыкших к скабрезностям; и подраненное сухопарое мужичье с узловатыми синими венами рыбарей при холщовых мешках, караулящих бедный улов за плотиной, выедаемых ядом сивушным и общей бессвязностью жизни; и пилотов их автоколонны с расплющенными о баранку ладонями, сокровенно измотанных собственною обязательностью; и кодированных и замоленных вдрызг у Матроны станочников с дальних заводов, поднимающихся из голодных постелей в четыре утра (клетчатая рубашка с натруженным воротником); и подсказчиков из «Технопарка» в оранжевых поло, молчаливо преследующих покупателя, пока тот не запнется у некоей полки, и сплавляемых за неуспешность, едва овладев мастерством сочетать в должной мере услужливость и наливное презренье; и мордатых купчин центрорынка в полосатых шатрах с зеркалами с приклеенной скотчем картонною створкой, одевающих две трети города в куртки вечноболотных цветов, неуступчивых в торге и недружелюбных к зевакам; и впряженных в стальные телеги, прокопченных солнцем атлетов с контейнерной мелкооптовки, скарабеев торговли в бейсболках с отметиной

Написанная под впечатлением от событий на юго-востоке Украины, повесть «Мальчики» — это попытка представить «народную республику», где к власти пришла гуманитарная молодежь: блоггеры, экологические активисты и рекламщики создают свой «новый мир» и своего «нового человека», оглядываясь как на опыт Великой французской революции, так и на русскую религиозную философию. Повесть вошла в Длинный список премии «Национальный бестселлер» 2019 года.

«Мыслимо ли: ты умер, не успев завести себе страницы, от тебя не осталось ни одной переписки, но это не прибавило ничего к твоей смерти, а, наоборот, отняло у нее…» Повзрослевший герой Дмитрия Гаричева пишет письмо погибшему другу юности, вспоминая совместный опыт проживания в мрачном подмосковном поселке. Эпоха конца 1990-х – начала 2000-х, еще толком не осмысленная в современной русской литературе, становится основным пространством и героем повествования. Первые любовные опыты, подростковые страхи, поездки на ночных электричках… Реальности, в которой все это происходило, уже нет, как нет в живых друга-адресата, но рассказчик упрямо воскрешает их в памяти, чтобы ответить самому себе на вопрос: куда ведут эти воспоминания – в рай или ад? Дмитрий Гаричев – поэт, прозаик, лауреат премии Андрея Белого и премии «Московский счет», автор книг «После всех собак», «Мальчики» и «Сказки для мертвых детей».

На всю жизнь прилепилось к Чанду Розарио детское прозвище, которое он получил «в честь князя Мышкина, страдавшего эпилепсией аристократа, из романа Достоевского „Идиот“». И неудивительно, ведь Мышкин Чанд Розарио и вправду из чудаков. Он немолод, небогат, работает озеленителем в родном городке в предгорьях Гималаев и очень гордится своим «наследием миру» – аллеями прекрасных деревьев, которые за десятки лет из черенков превратились в великанов. Но этого ему недостаточно, и он решает составить завещание.

Книга для читателя, который возможно слегка утомился от книг о троллях, маньяках, супергероях и прочих существах, плавно перекочевавших из детской литературы во взрослую. Для тех, кто хочет, возможно, просто прочитать о людях, которые живут рядом, и они, ни с того ни с сего, просто, упс, и нормальные. Простая ироничная история о любви не очень талантливого художника и журналистки. История, в которой мало что изменилось со времен «Анны Карениной».
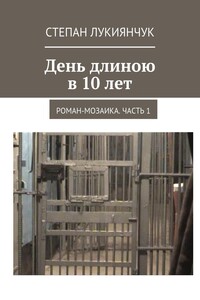
Проблематика в обозначении времени вынесена в заглавие-парадокс. Это необычное использование словосочетания — день не тянется, он вобрал в себя целых 10 лет, за день с героем успевают произойти самые насыщенные события, несмотря на их кажущуюся обыденность. Атрибутика несвободы — лишь в окружающих преградах (колючая проволока, камеры, плац), на самом же деле — герой Николай свободен (в мыслях, погружениях в иллюзорный мир). Мысли — самый первый и самый главный рычаг в достижении цели!

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В жизни каждого человека встречаются люди, которые навсегда оставляют отпечаток в его памяти своими поступками, и о них хочется написать. Одни становятся друзьями, другие просто знакомыми. А если ты еще половину жизни отдал Флоту, то тебе она будет близка и понятна. Эта книга о таких людях и о забавных случаях, произошедших с ними. Да и сам автор расскажет о своих приключениях. Вся книга основана на реальных событиях. Имена и фамилии действующих героев изменены.
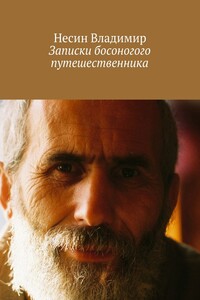
С Владимиром мы познакомились в Мурманске. Он ехал в автобусе, с большим рюкзаком и… босой. Люди с интересом поглядывали на необычного пассажира, но начать разговор не решались. Мы первыми нарушили молчание: «Простите, а это Вы, тот самый путешественник, который путешествует без обуви?». Он для верности оглядел себя и утвердительно кивнул: «Да, это я». Поразили его глаза и улыбка, очень добрые, будто взглянул на тебя ангел с иконы… Панфилова Екатерина, редактор.