Размышления аполитичного - [5]
Но отчего же непричастен? Отчего же связан, повязан? Если я в отличие от них не ничто, тогда что же я? Это и был вопрос, который загнал меня на «галеру»; «сравнивая», я силился найти на него ответ. Понимание, не раз готовое выйти на поверхность, оказывалось туманным, неустойчивым, недостаточным, диалектически-односторонним, от напряжения искривлённым. Стоит ли ради плохонького спокойствия в последний момент ещё раз попытаться кое-как его зацепить?
Во всём духовно-важном я истинный сын века, на который выпали первые двадцать пять лет моей жизни, — девятнадцатого. Однако я обнаруживаю в себе артистически-формальные и духовно-нравственные элементы, потребности, инстинкты, принадлежащие уже не той эпохе, а новой. Насколько я как писатель, по большому счёту, чувствую себя отпрыском (разумеется, не представителем) немецко-бюргерского повествовательного искусства девятнадцатого века, от Адальберта Штифтера до самого последнего Фонтане, насколько корни мои, артистические склонности уходят в этот родной для меня мир немецкого мастерства, который, стоит лишь прикоснуться к нему, восторгает, укрепляет, поскольку служит идеальным (в платоновском смысле. — Примеч. пер.) подтверждением меня, — настолько же и мой духовный центр тяжести лежит по ту сторону рубежа веков. Романтизм, национализм, бюргерство, музыка, пессимизм, юмор — все эти атмосферные примеси истекшего столетия в главном суть неличные составные части и моей сути. Но, если не вдаваться в подробности, девятнадцатый век отличается от предыдущего и, как становится всё яснее, от нового, нынешнего прежде всего главенствующим настроением, душевным расположением, одной чертой характера. Ницше первым и лучше других облёк эту разницу характеров в аналитические слова.
«Искренним, но мрачным» называет Ницше век девятнадцатый в противоположность восемнадцатому, который он, примерно как и Карлейль, считает женоподобным, лживым. Тот век в своих гуманных социальных мечтаниях был, по его мнению, одержим духом, поставленным на службу желательности, чего девятнадцатый век не знает. Этот — зверинее, уродливее, даже вульгарнее и именно поэтому «лучше», «правдивее», покорнее и честнее по отношению к любой действительности. Правда, продолжает Ницше, девятнадцатый век при всём том слабоволен, печально- и мрачно-похотлив, фаталистичен. Он не робел, не благоговел ни перед «разумом», ни перед «сердцем» и, устами Шопенгауэра, даже мораль свёл к инстинкту — состраданию. Научный, бесстрастный в своих желаниях, он-де высвободился из-под господства идеалов и возжаждал теорий, пригодных для оправдания фаталистической покорности фактическому. Восемнадцатый век стремится забыть то, что известно о природе человека, дабы приспособить его к своей утопии. Поверхностный, мягкий, гуманный, исполненный грёз о «человеке», он посредством искусства пропагандировал реформы социального и политического характера. Гегель же со своим фаталистическим образом мышления, со своей верой в сильный разум победителя, с оправданием настоящего «государства» (вместо «человечества» и т. д.) — это решительный успех в борьбе с чувствительностью. И Ницше говорит об антиреволюционности Гёте, о его «воле к обожествлению Вселенной и жизни, дабы в их
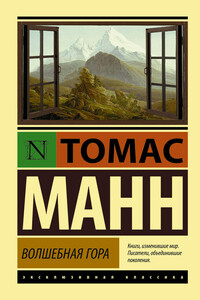
«Волшебная гора» – туберкулезный санаторий в Швейцарских Альпах. Его обитатели вынуждены находиться здесь годами, общаясь с внешним миром лишь редкими письмами и телеграммами. Здесь время течет незаметно, жизнь и смерть утрачивают смысл, а мельчайшие нюансы человеческих отношений, напротив, приобретают болезненную остроту и значимость. Любовь, веселье, дружба, вражда, ревность для обитателей санатория словно отмечены тенью небытия… Эта история имеет множество возможных прочтений – мощнейшее философское исследование жизненных основ, тонкий психологический анализ разных типов человеческого характера, отношений, погружение в историю культуры, религии и в историю вообще – Манн изобразил общество в канун Первой мировой войны.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
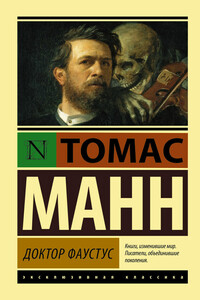
«Доктор Фаустус» (1943 г.) — ключевое произведение Томаса Манна и одна из самых значительных книг ХХ века. Старая немецкая легенда о докторе Иоганне Фаустусе, продавшем душу дьяволу не за деньги или славу, а за абсолютное знание, под пером Томаса Манна обретает черты таинственного романа-притчи о молодом талантливом композиторе Леверкюне, который то ли наяву, то ли в воображении заключил сходную сделку с Тьмой: каждый, кого полюбит Леверкюн, погибнет, а гениальность его не принесет людям ничего, кроме несчастий.Новая, отредактированная версия классического перевода с немецкого Соломона Апта и Наталии Ман.
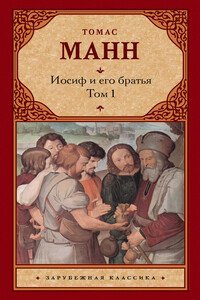
«Иосиф и его братья» – масштабная тетралогия, над которой Томас Манн трудился с 1926 по 1942 год и которую сам считал наиболее значимым своим произведением.Сюжет библейского сказания об Иосифе Прекрасном автор поместил в исторический контекст периода правления Аменхотепа III и его сына, «фараона-еретика» Эхнатона, с тем чтобы рассказать легенду более подробно и ярко, создав на ее основе увлекательную историческую сагу.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Сборник эссе, интервью, выступлений, писем и бесед с литераторами одного из самых читаемых современных американских писателей. Каждая книга Филипа Рота (1933-2018) в его долгой – с 1959 по 2010 год – писательской карьере не оставляла равнодушными ни читателей, ни критиков и почти неизменно отмечалась литературными наградами. В 2012 году Филип Рот отошел от сочинительства. В 2017 году он выпустил собственноручно составленный сборник публицистики, написанной за полвека с лишним – с I960 по 2014 год. Книга стала последним прижизненным изданием автора, его творческим завещанием и итогом размышлений о литературе и литературном труде.

Проблемой номер один для всех без исключения бывших республик СССР было преодоление последствий тоталитарного режима. И выбор формы правления, сделанный новыми независимыми государствами, в известной степени можно рассматривать как показатель готовности страны к расставанию с тоталитаризмом. Книга представляет собой совокупность «картинок некоторых реформ» в ряде республик бывшего СССР, где дается, в первую очередь, описание институциональных реформ судебной системы в переходный период. Выбор стран был обусловлен в том числе и наличием в высшей степени интересных материалов в виде страновых докладов и ответов респондентов на вопросы о судебных системах соответствующих государств, полученных от экспертов из Украины, Латвии, Болгарии и Польши в рамках реализации одного из проектов фонда ИНДЕМ.

Вопреки сложившимся представлениям, гласность и свободная полемика в отечественной истории последних двух столетий встречаются чаще, чем публичная немота, репрессии или пропаганда. Более того, гласность и публичность не раз становились триггерами серьезных реформ сверху. В то же время оптимистические ожидания от расширения сферы открытой общественной дискуссии чаще всего не оправдывались. Справедлив ли в таком случае вывод, что ставка на гласность в России обречена на поражение? Задача авторов книги – с опорой на теорию публичной сферы и публичности (Хабермас, Арендт, Фрейзер, Хархордин, Юрчак и др.) показать, как часто и по-разному в течение 200 лет в России сочетались гласность, глухота к политической речи и репрессии.
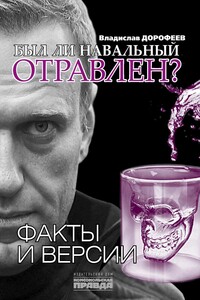
В рамках журналистского расследования разбираемся, что произошло с Алексеем Навальным в Сибири 20–22 августа 2020 года. Потому что там началась его 18-дневная кома, там ответы на все вопросы. В книге по часам расписана хроника спасения пациента А. А. Навального в омской больнице. Назван настоящий диагноз. Приведена формула вещества, найденного на теле пациента. Проанализирован политический диагноз отравления. Представлены свидетельства лечащих врачей о том, что к концу вторых суток лечения Навальный подавал признаки выхода из комы, но ему не дали прийти в сознание в России, вывезли в Германию, где его продержали еще больше двух недель в состоянии искусственной комы.

К сожалению не всем членам декабристоведческого сообщества удается достойно переходить из административного рабства в царство научной свободы. Вступая в полемику, люди подобные О.В. Эдельман ведут себя, как римские рабы в дни сатурналий (праздник, во время которого рабам было «все дозволено»). Подменяя критику идей площадной бранью, научные холопы отождествляют борьбу «по гамбургскому счету» с боями без правил.
