Размышления аполитичного - [4]
Всё это справедливо лишь при определённых условиях. Справедливо лишь тогда, и человеческое благодаря литературной известности лишь тогда оказывается годным к светской публичности, когда оно достойно публичности духовной; в противном случае известность приведёт к насмешкам или скандалам. Этот закон необходимо соблюдать, этого критерия необходимо придерживаться. И теперь мне надлежит обратить к себе вопрос: оправдана ли публикация этих записок, этого изделия одного одиночества, одиночества, привыкшего к публичности. Иными словами, годны ли они к светской публичности, поскольку достойны духовной? И что толку, если мне удастся оправдать их публикабельность, их право на публичность, или право, которое имеет на них публичность, одними лишь человечески-личными соображениями? Правда, такие соображения нельзя отбрасывать вовсе. Бог знает сколько времени, как производство моё застопорилось, разглашённые планы не спешат реализовываться, а я вроде как онемел, окаменел, вроде как вышел в тираж. Разве не обязан я был отчитаться перед друзьями о том, как провёл эти годы? А даже если речь не об обязанности, может, позволительно говорить о праве? Ведь в конечном счёте я боролся и опускал руки, работал до тошноты, честно силился что-то понять, пусть недостаточными, дилетантскими силами; и желание, чтобы всё это вынашивалось, вытерпливалось и выделывалось не совсем «зря», не в личном и непубличном одиночестве, было вполне человеческим. Повторяю, эти соображения нельзя отбрасывать, но решающего значения они не имеют. Публикабельность записок должна быть доказана, их публикация должна быть оправдана духовными причинами; речь идёт об их духовном праве на публичность, и я действительно полагаю, что таковое существует.
Сочинение это, обладающее безоглядностью приватно-эпистолярного сношения, в самом деле — говорю по всей правде и совести — выявляет духовные основы того, что я мог пред-дожить как художник и что принадлежит общественности. Коли духовной публичности было достойно последнее, то нижеследующий отчёт, по-видимому, тоже. И поскольку его у меня домогалось время, причём домогалось неотступно, то, сдаётся мне, время имеет на него кое-какие права; тут, думаю, документ не настолько пустой, чтобы не стать известным нынешним и даже будущим, хотя бы в силу своей симптоматической ценности, безграничности духовного волнения, усердия говорить обо всём сразу… Неясность по вопросу о том, оказался ли я при этом не просто плохим мыслителем, но, обнажив духовный фундамент своего художничества, ещё и скомпрометировал последнее, для меня не повод положить данное сочинение под сукно. Да выйдет наружу то, что есть правда. Я никогда не представлялся лучше, чем есть, и не намерен этого делать — ни посредством говорения, ни посредством умного молчания. Никогда не боялся показать себя. Воля, которую Руссо изъявляет в первой фразе своей «Исповеди», которая в его время считалась новой, неслыханной: «показать человека во всей правде его природы, и этим человеком буду я», — воля, которую Руссо называет «доселе беспримерной», полагая, что её исполнение не найдёт подражателей, въелась в плоть и кровь, стала самоочевидностью, главным духовно-художественным этосом века, к которому я по большей части принадлежу, — девятнадцатого; и строки Шатена сложены и о моей жизни, как и о жизни столь многих сынов этой эпохи исповедников:
>Ещё не столь я бледен, что нужны мне румяна,>Да знает меня мир — и да простит меня!Повторяю: фиксация противоречивости, будь то в образе или слове, пригодна для бюргерской публичности, коль скоро достойна духовной. В этом случае достоинство приватного лица не страдает ничуть. Я имею в виду прежде всего один человечески-трагический аспект этой книги[5], интимный конфликт, которому сугубо посвящена не одна страница, который также определяет, окрашивает мою мысль иногда. О нём тоже, о нём в особенности следует сказать, что предание его гласности, в той мере, в какой оно вообще было возможно, духовно оправдано и потому лишено непристойности. Ибо, возникнув в духовной сфере, сей интимный конфликт, несомненно, обладает достаточной мерой символического достоинства, дабы иметь право на публичность, а потому при описании не выглядеть постыдно. Просвещённая бюргерская общественность, то есть общественность, по возможности отождествляющая себя с духовной, не оскорбится разглашением личного, которое достойно публичности духовной и на которое последняя имеет определённые права. Может статься, доверчивость, выразившаяся в таком разглашении, станет свидетельством чрезмерной «одинокости» и оптимистической наивности, но её погибель не станет бесчестьем для того, кто нёс эту доверчивость в своём сердце.
Работая над этой книгой, пытаясь добросовестно (или педантично) снова уложить взбаламученные, взвихренные временем основы своего естества в связные предложения, я, как уже говорилось, служил времени. Иной, однако, ознакомившись с нижеследующими главами, может рассудить, что «служил» я, ей-богу, странно, не испытывая к этому времени здоровой любви, не дисциплинированно, упрямо, сотни раз демонстрируя враждебное непослушание и злую волю, и отнюдь не заслужил чести быть причастным к его исполнению, завершению, воплощению. Что в стремлении подпереть, защитить отмирающее, обветшалое, отбиться от нового, нужного, от самого времени, повредить этому времени я не столько (не только) выказал себя скверным мыслителем, сколько (но и) выказал свои скверные мысли, скверные взгляды, скверный характер. На это хотел бы возразить, что времени можно служить не одним лишь способом и мой — не обязательно такой уж неправильный, скверный и бесплодный. Один современный мыслитель сказал: «Нащупать направление, в котором развивается культура, не столь сложно, с визгом примкнуть к нему — не столь восхитительно, как у нас полагают ополовиненные мозги. Увидеть собственно течение жизни, сё отливы, противоречия, натяжение, необходимые для неё противовесы, противоборствующие силы, которые вновь взнуздывают жизнь, буде она ослабеет, израсходовав собственные, распознать противников, без которых жизнен-пая драма встала бы на месте, — всё это не только увидеть,
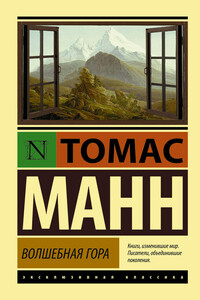
«Волшебная гора» – туберкулезный санаторий в Швейцарских Альпах. Его обитатели вынуждены находиться здесь годами, общаясь с внешним миром лишь редкими письмами и телеграммами. Здесь время течет незаметно, жизнь и смерть утрачивают смысл, а мельчайшие нюансы человеческих отношений, напротив, приобретают болезненную остроту и значимость. Любовь, веселье, дружба, вражда, ревность для обитателей санатория словно отмечены тенью небытия… Эта история имеет множество возможных прочтений – мощнейшее философское исследование жизненных основ, тонкий психологический анализ разных типов человеческого характера, отношений, погружение в историю культуры, религии и в историю вообще – Манн изобразил общество в канун Первой мировой войны.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
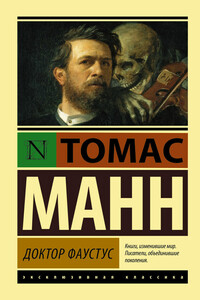
«Доктор Фаустус» (1943 г.) — ключевое произведение Томаса Манна и одна из самых значительных книг ХХ века. Старая немецкая легенда о докторе Иоганне Фаустусе, продавшем душу дьяволу не за деньги или славу, а за абсолютное знание, под пером Томаса Манна обретает черты таинственного романа-притчи о молодом талантливом композиторе Леверкюне, который то ли наяву, то ли в воображении заключил сходную сделку с Тьмой: каждый, кого полюбит Леверкюн, погибнет, а гениальность его не принесет людям ничего, кроме несчастий.Новая, отредактированная версия классического перевода с немецкого Соломона Апта и Наталии Ман.
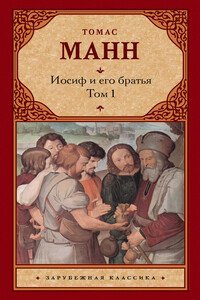
«Иосиф и его братья» – масштабная тетралогия, над которой Томас Манн трудился с 1926 по 1942 год и которую сам считал наиболее значимым своим произведением.Сюжет библейского сказания об Иосифе Прекрасном автор поместил в исторический контекст периода правления Аменхотепа III и его сына, «фараона-еретика» Эхнатона, с тем чтобы рассказать легенду более подробно и ярко, создав на ее основе увлекательную историческую сагу.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Сборник эссе, интервью, выступлений, писем и бесед с литераторами одного из самых читаемых современных американских писателей. Каждая книга Филипа Рота (1933-2018) в его долгой – с 1959 по 2010 год – писательской карьере не оставляла равнодушными ни читателей, ни критиков и почти неизменно отмечалась литературными наградами. В 2012 году Филип Рот отошел от сочинительства. В 2017 году он выпустил собственноручно составленный сборник публицистики, написанной за полвека с лишним – с I960 по 2014 год. Книга стала последним прижизненным изданием автора, его творческим завещанием и итогом размышлений о литературе и литературном труде.

Проблемой номер один для всех без исключения бывших республик СССР было преодоление последствий тоталитарного режима. И выбор формы правления, сделанный новыми независимыми государствами, в известной степени можно рассматривать как показатель готовности страны к расставанию с тоталитаризмом. Книга представляет собой совокупность «картинок некоторых реформ» в ряде республик бывшего СССР, где дается, в первую очередь, описание институциональных реформ судебной системы в переходный период. Выбор стран был обусловлен в том числе и наличием в высшей степени интересных материалов в виде страновых докладов и ответов респондентов на вопросы о судебных системах соответствующих государств, полученных от экспертов из Украины, Латвии, Болгарии и Польши в рамках реализации одного из проектов фонда ИНДЕМ.

Вопреки сложившимся представлениям, гласность и свободная полемика в отечественной истории последних двух столетий встречаются чаще, чем публичная немота, репрессии или пропаганда. Более того, гласность и публичность не раз становились триггерами серьезных реформ сверху. В то же время оптимистические ожидания от расширения сферы открытой общественной дискуссии чаще всего не оправдывались. Справедлив ли в таком случае вывод, что ставка на гласность в России обречена на поражение? Задача авторов книги – с опорой на теорию публичной сферы и публичности (Хабермас, Арендт, Фрейзер, Хархордин, Юрчак и др.) показать, как часто и по-разному в течение 200 лет в России сочетались гласность, глухота к политической речи и репрессии.
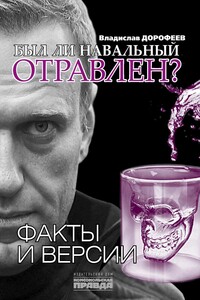
В рамках журналистского расследования разбираемся, что произошло с Алексеем Навальным в Сибири 20–22 августа 2020 года. Потому что там началась его 18-дневная кома, там ответы на все вопросы. В книге по часам расписана хроника спасения пациента А. А. Навального в омской больнице. Назван настоящий диагноз. Приведена формула вещества, найденного на теле пациента. Проанализирован политический диагноз отравления. Представлены свидетельства лечащих врачей о том, что к концу вторых суток лечения Навальный подавал признаки выхода из комы, но ему не дали прийти в сознание в России, вывезли в Германию, где его продержали еще больше двух недель в состоянии искусственной комы.

К сожалению не всем членам декабристоведческого сообщества удается достойно переходить из административного рабства в царство научной свободы. Вступая в полемику, люди подобные О.В. Эдельман ведут себя, как римские рабы в дни сатурналий (праздник, во время которого рабам было «все дозволено»). Подменяя критику идей площадной бранью, научные холопы отождествляют борьбу «по гамбургскому счету» с боями без правил.
