Пути и перепутья - [55]
— Чего ж глазеть? Помогите, мужики. Надо снять человека. Милицию позвать.
На нее с кулаками бросилась Митькина жена.
— Сволочи! Вся жизнь сломалась! Из-за вас! Из-за вас!..
Тетя Вера поймала ее в кольцо гибких рук.
— Дура ты! Чего беснуешься? У тебя ж сын. Поступим на завод… Может, жить научимся.
На террасе Пролеткиных хлопнула дверь — за ней исчез Олег. Я кинулся было за ним, но уткнулся в задубевшую телогрейку матери.
— Святы боже, святы крепки, святы быр… быр… быр… помилуй нас! — она прижала к себе мою голову.
Возможно, я и отмяк бы возле нее, ощути теплоту ее тела, ласку рук или горечь слезы. Но телогрейка матери источала лишь тошнотворный настой полуистлевшей кухонной тряпки. Я убежал в дальний угол сада и распластался на земле между рядами загустевшей малины.
Я всегда обходил стороной смерть. Когда случалось видеть покойника, подолгу не притрагивался к пище, ночами просыпался в холодном поту — от кошмаров. А тут обратились в покойников два человека, чьи голоса еще отдавались во мне, и смерть их всей тяжкой неотвратимостью повисла, казалось, и надо мной.
— Васятка… Того… Простынешь… Тут сыро, в кустах-то…
Клешнястые руки приподняли меня за плечи от земли, но, будто не осилив моей тяжести, отец сам сел рядом со мной — еще не умытый после ночной смены, остро пахнущий масляным потом машин. Жесткие пальцы его вошли в унавоженную почву.
— Митьку-то… того… куда-то уже свезли, — тихо проговорил он, разминая комочки. — Вишь как? Был человек и… того… приложился… к народу своему…
— Приложился?! Кто?! — уловив лишь последние и столь необычные в устах отца слова, я сел, предчувствуя новые беды. — Кто приложился?
— Эва!.. Как ты… того… напугался, — грустно улыбнулся отец и, как чего-то хрупкого, коснулся моего плеча железными пальцами. — А я вспомнил… Того… Дед твой нам с твоей матушкой Библию когда-то читал… Того… Как это?.. «И скончался Авраам и умер в старости доброй, престарелый и насыщенный жизнью, и приложился к народу своему»… Того… Я больше-то ничего не запомнил… Одну только строчку… Все отца своего ей поминал — он в голод-то ради меня пропал… Все… того… плакал я: он и ненасыщенный был и старость… того… недобрая… Так — приложился где-то… — Отец запустил пятерню под промасленную кепчонку. — Тут, того… вишь… какое дело… Живы — всяк сам по себе, всяк… того… над другими себя возвышает и чего только… того… не выкозюливает… А помер… и того… в рядок со всеми: к народу своему приложился. — Отец пугливо огляделся, наверно удивленный, что так много наговорил, и, кивнув в сторону дома, прошептал: — Ты того… ты вот с кем… ты с матерью поговори…. Она… того… ух!.. Она Библию-то, поди, назубок… Вставай!..
Дома в углу с иконами мерцала лампадка, и мать беззвучно молилась на коленях. Я первый раз не испытал к ее углу отвращения и, позови меня, мог бы, наверное, плюхнуться рядом с ней на колени. Но она оглянулась и не сказала, а будто клюкой постучала по полу:
— На улицу — ни-ни! Милиция шарит. Четырех уже увели на допрос. Иди умойся, лица на тебе нет! Живых надо бояться! Живых, а не мертвых!
Весь мир снова замкнулся для меня в пределах нашего сада, такого же хилого, неоперившегося, как, наверно, и я сам. Юные яблоньки робко вздымали на сиреневых ножках жиденькие метелки тонких ветвей. Гибкие вишни слезились потеками клейкого сока. Все держалось подпорками, дрожало от легчайшего ветерка. Молодые побеги не отнимали пространства, слабыми тенями тянулись к земле, отдаваясь каждой клеткой всевластному солнцу. И жив я был, кажется, только солнцем, еще не палящим, мягким. Мне снова в радость стал даже высокий плотный забор, за который никто не заглянет. Только солнце! Эх, так бы всю жизнь: я и солнце!
Но время ползло тягуче, медленно, пока не почудилось мне, что и оно умерло и что само солнце гаснет, уронив мне на плечи последние вялые лучи. Так прошла вечность, а может, миг, пока я стоял у забора и пока старый сучок не упал из гнездышка на мою ладонь. Но дело не в нем. И не выгляни я на улицу, это все равно бы случилось: к нашему дому уже торопилась Зойка, босая, в том же стареньком платьице, — Зойка, совсем непохожая на себя!
Я вылетел за калитку:
— Зойка! А косы?
— А так, что ли, хуже? — Она с достоинством отвела за ухо темную прядку и повернула ко мне неузнаваемо строгое лицо.
— Не знаю…
— Чудак! Кому теперь до моих кос? Мама на завод устроилась, посудомойкой в столовую. Олегу, что ли? Ой! Мы тут болтаем, а он тебя ждет. Айда!..
Не знаю, как обернулось бы все, явись за мной сам Олег: он перепугал меня бегством с поминок. Но за Зойкой последовал я без уговоров.
В ходьбе я всегда держал ее впереди себя. Мне нравилось, что ходит она не как все, а будто по чьему-то запутанному следу. То вскинется на носочки, как в танце, то вокруг себя обернется и всегда наведет на что-нибудь такое, чего мне самому ни в жизнь не заметить. Но тут она шла прямиком и так спешила, что только в конце их сада я спохватился:
— А где же Олег?
— Тс-с… — Зойка строго приложила палец к губам. — Он три дня не ночует дома. Даже мама не знает где. Никто, кроме меня! Я и еду ему таскаю.
Через лаз в заборе она вывела меня на «блюдечко» — полукруглый козырек над крутым каменистым спуском. Прямо под ним расстилалась река, прозрачная у нашего берега до белого каменистого дна. У берега другого, пологого, с протоками, вода была черной. Русло было широким. И все же казалось: встань одной ногой на краю обрыва, а другую занеси над бездной — и легко перемахнешь не только реку, но и луга за ней, и даже лес у кромки горизонта. Высоченный обрыв! Речная долина с него как на картине. Раздолье — залюбуешься. Гористый берег с белым каменьем на ребрах, с желтой глиной на осыпях, с травяными увалами обрамляет реку. А там, у горизонта, где вода и берега сливаются воедино, в солнечный день даже увидится, как высокобортная баржа, островок с трехногой вышкой — желанный причал наших дальних странствий.
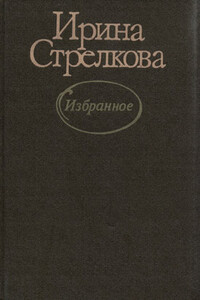
«Появление первой синички означало, что в Москве глубокая осень, Алексею Александровичу пора в привычную дорогу. Алексей Александрович отправляется в свою юность, в отчий дом, где честно прожили свой век несколько поколений Кашиных».
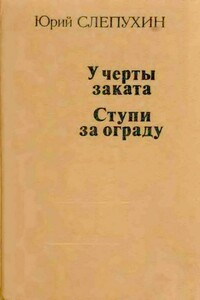
В однотомник ленинградского прозаика Юрия Слепухина вошли два романа. В первом из них писатель раскрывает трагическую судьбу прогрессивного художника, живущего в Аргентине. Вынужденный пойти на сделку с собственной совестью и заняться выполнением заказов на потребу боссов от искусства, он понимает, что ступил на гибельный путь, но понимает это слишком поздно.Во втором романе раскрывается широкая панорама жизни молодой американской интеллигенции середины пятидесятых годов.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

…Человеку по-настоящему интересен только человек. И автора куда больше романских соборов, готических колоколен и часовен привлекал многоугольник семейной жизни его гостеприимных французских хозяев.