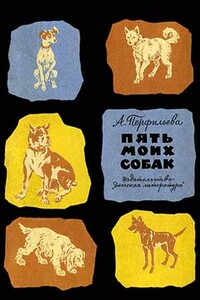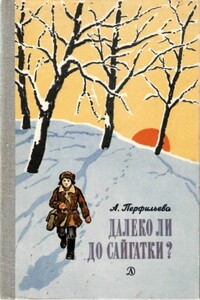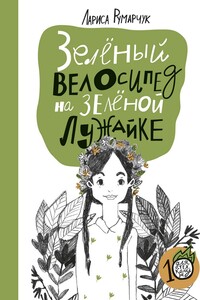Из коридора вышел старичок, сухонький и лёгкий, в очках и с пушистыми белыми усами.
— Николая Антоновича спрашиваете? — ласково сказал он, рукой приглашая зайти. — Прошу. Только извините, Николая Антоновича уже две недели нет в Москве.
Тут он, видно, разглядел, что перед ним стоит взволнованный, потрясённый паренёк, потому что добавил так же ласково, но попроще:
— Да ты зайди, зайди, но бойся…
Парнишка, судорожно глотнув воздух и зацепив за дверь сундучком, вошёл в переднюю.
— Так, значит, нету Николая Антоновича, капитана…
— Выехал он. В командировку, по служебному делу выехал.
— А вернётся… когда?
— И этого не скажу, — старичок снова развёл руками. — Может, через месяц, а может, и раньше. Татьяна Ивановна, какого числа Николай Антонович отправился?
Из коридора тотчас ответили:
— Пятнадцатого мая. Ты что, не помнишь? Мы как раз тогда только приехали.
Старичок, прищурившись, внимательно смотрел на паренька. А тот, опустив голову, всё мял и мял руками свою фуражку, собираясь с мыслями.
— Мне его повидать надо. Я тогда после приду… Я всё равно ждать буду!.. Пятнадцатого мая, и письмо моё, значит, не успел получить…
Он прошептал ещё что-то про себя и, снова зацепившись за дверь, попятился на площадку.
— Да ты сам-то откуда? — спросил Игнатий Иванович, шагнув за ним, а Татьяна Ивановна высунулась из коридора и крикнула:
— Фамилию, фамилию-то спроси! Уезжать сегодня будем, записку оставим!
Но парнишка не слышал её. Он уже стоял на ступеньке, всё ещё без фуражки, с осунувшимся и помрачневшим лицом. Игнатий Иванович вышел за ним на площадку, сказал участливо:
— Звать-то тебя как? Может, надо чего, воротись, разберём сообща.
— Звать — Максим, фамилия — Руднев, — тихо, но ясно ответил парнишка, поднимая голову. — Спасибо, дяденька. Только мне его, его самого надо! Вы не думайте, я всё равно ждать буду…
И, застыдившись внезапно прозвеневших в его голосе слёз, он надел фуражку, подхватил сундучок и застучал сапогами по лестнице.
На столе лежало письмо.
Стол был чисто-начисто выскоблен — соседка каждый вечер мыла, убирала у них в избе, чтобы попрежнему казалось: за всем следит неустанный хозяйский глаз, всё, как при хозяйке.
Письмо было отпечатано на машинке и потому походило не то на газету, не то на страницу из журнала. Максимка столько раз за это время перечитывал его, что совсем захватал пальцами и знал наизусть:
«Максим, дружок, здравствуй!
Вспоминаешь меня, братишка? Шлю тебе и твоей матери привет из столицы. Как дела, как ученье? Навёрстываешь ли за те годы? Я работаю вовсю: живу хорошо, только дел много, часто в разъездах. Что нового у вас в колхозе? Пиши мне про всё, про свои заботы. Я знаю, нелегко тебе, четырнадцатилетнему парню, сидеть в одном классе с малышами. Ничего, Максим, не горюй, это всё война виновата. А в случае чего — знай: есть у тебя в Москве друг и советчик. Что сумею, всегда сделаю и помогу.
Ты писал, что мать хворает часто. Береги её, Максим, ласковая она и хорошая. Ей скажи, что я всё вспоминаю, как она меня тогда земляникой кормила! И о том, как в то лето бедовали вместе, никогда не забуду. Посылаю вам с матерью гостинцы, кушайте на здоровье. Обнимаю и жму руку.
Ваш Н. Бондаренко».
Максимка сгорбился и крепко зажмурил светлые, с выгоревшими ресницами глаза.
Ни привета, ни гостинцев от далёкого друга из Москвы матери передать не пришлось: письмо Бондаренко было написано в начале мая, а мать умерла ранней весной, в половодье, когда разлившаяся река почти вплотную подошла к их дому и днём и ночью шумели проплывавшие за окнами льдины.
Кто же был этот далёкий друг?
В начале лета 1944 года, когда наступающие войска Красной Армии освобождали Белоруссию, в одном из колхозов на границе Минской и Смоленской областей остановилась воинская часть.
От всего колхоза за страшное то время, пока там хозяйничали фашисты, уцелело только несколько домов. Но жители, до прихода наших войск скрывавшиеся в окрестных лесах, уже вернулись и ютились кто в землянках, а кто в этих уцелевших домах.
Среди вернувшихся были Максимка и его мать. Их дом сохранился, хоть и обгорел во время пожара. Воинская часть задержалась в колхозе, ожидая пополнения. И в доме Максимки поселились несколько командиров. Один из них неожиданно заболел, но ни за что не хотел ложиться в госпиталь. Это был Николай Антонович Бондаренко…
С тех самых дней, когда Максимка и его мать выхаживали заболевшего, между ними и капитаном началась большая дружба.
Поправившись, Николай Антонович уехал догонять свою часть, а Максимка с матерью остались в колхозе. Наступала мирная жизнь, колхоз понемногу отстраивался, рос. Дружба же с уехавшим капитаном не прекращалась. Письма от него приходили сначала из Польши, потом из Берлина и, наконец, из Москвы. Максимка старательно отвечал Николаю Антоновичу, только на бумаге у него не выходило так, как рассказал бы словами.
Вот и это письмо было тоже из Москвы.
Максимка читал и перечитывал его теперь, бессознательно ища в нём подтверждения своему решению, которое пришло к нему вместе с тупой тоской и непривычным чувством самостоятельности после смерти матери.