Пушкин — либертен и пророк. Опыт реконструкции публичной биографии - [84]
Принимая это объяснение, мы бы хотели внести в него некоторое уточнение. В статье «Последний из свойственников» Пушкин, действительно противопоставляя Саути Вольтеру, объясняет это тем, что вдохновение английского поэта имело «девственный ‹…› (еще не купленный) характер». Таким образом, быть «честным человеком» для писателя — означало, по Пушкину, быть «не купленным», то есть независимым в своих суждениях. Для Пушкина, всего лишь за несколько лет до этого указывавшего на «подлость» Карамзина, признание за ним «честности» знаменовало полное изменение отношения к историку и его «Истории».
Важно отметить, что тезис о том, что Карамзин был «честен», стал программным для его друзей, когда пришло время отстаивать посмертную репутацию историка[588]. При этом нужно принять во внимание, что в 1826 году, когда Пушкин писал свои «Воспоминания» о Карамзине, отношение либеральной публики к «Истории» Карамзина продолжало оставаться очень сложным. Даже публикация последних двух томов не исключила самых резких оценок творческого наследия историка:
Не о косе времени надо спорить, а о благодарности, которою все русские якобы обязаны Карамзину; вопрос за что? История его подлая и педантическая, а все прочие его сочинения жалкое детство…[589]
Это мнение человека либерального круга, каким был П. А. Катенин, относящееся к 1828 году, в известной степени определялось реакцией официозной литературы на смерть историка. В многочисленных некрологах давался портрет Карамзина-царедворца или, в лучшем случае, друга императора Александра[590]. Доминировал здесь мотив личной преданности Карамзина Александру I и упоминалось «истинное великодушие» к историку. Вацуро назвал это «канонизацией» Карамзина[591].
Об особых отношениях между историком и императором говорилось и в «Манифесте», адресованном умирающему Карамзину от имени Николая. Манифест был написан Жуковским и содержал фразу, ставшую очередной рефлексией на тему «история — народ — царь»:
Русский народ достоин знать свою историю… История, Вами написанная, достойна русского народа![592]
Возможно, современники просто не решились противоречить императорскому Манифесту и отраженному в нем взгляду на Карамзина.
Именно поэтому в год смерти Карамзина у его близких друзей возникла необходимость, в противовес официозной канонизации его облика, описать историка как независимую личность, как человека, говорящего императору Александру в лицо горькую правду[593].
О независимом поведении Карамзина по отношению к власти было хорошо известно и Пушкину, о чем свидетельствует оставшийся неопубликованным эпизод из «Воспоминаний»:
Однажды, отправляясь в Павловск и надевая свою ленту, он посмотрел на меня наискось и не мог удержаться от смеха. Я прыснул, и мы оба расхохотались… (XII, 307).
Это знание, тем не менее, не мешало Пушкину критиковать историка и писать на него эпиграммы. Очевидно, что в 1826 году ситуация изменилась, и поведение Карамзина превратилось для Пушкина из объекта инвектив в образец писательского служения, в «подвиг честного человека». Эту перемену невозможно объяснить исключительно обстоятельствами, открывающими новое царствование, и смертью историка. Об этом свидетельствует, например, то, что Пушкин, сразу после смерти Карамзина сокрушаясь о том, что никто из близких Карамзина не оставил достойных его воспоминаний, сам не торопился публиковать то немногое, что о нем написал и что все-таки отличалось от официозных панегириков. Публичное возвратное движение Пушкина к Карамзину началось лишь спустя три года с публикации в «Северных цветах на 1828 год», включающей утверждение, что Карамзин «честен».
Почему это произошло именно тогда, в 1829 году, а не раньше? Возможно, Пушкин опубликовал свои «Воспоминания» о Карамзине в тот момент, когда в его собственный адрес стали звучать упреки читающей публики в сервилизме[594], так же (если не более) горько и часто, как они звучали в адрес Карамзина. Так, подчеркнуто автобиографически звучит следующий пассаж из воспоминаний о Карамзине:
Многие забывали, что Карамзин печатал свою Историю в России, в государстве самодержавном; что государь, освободив его от цензуры, сим знаком доверенности налагал на Карамзина обязанность всевозможной скромности и умеренности. Повторяю, что История Государства Российского есть не только создание великого писателя, но и подвиг честного человека. (Извлечено из неизданных записок.) (XI, 57).
В 1829 году, когда эти строки были опубликованы, все приведенное выше можно было отнести не только к Карамзину, но и к самому Пушкину. Ведь незадолго до написания этих строк император освободил от цензуры его самого, после чего он сам стал, к огорчению и разочарованию современников, придерживаться несвойственной ему «скромности и умеренности» в политических оценках. При этом в сознании читателей продолжала укрепляться параллель «Пушкин — Карамзин», возникшая после знаменитой встречи Пушкина и императора, в результате которой Николай принял на себя обязанности цензора, то есть первого читателя всего того, что Пушкин напишет. Современники почувствовали это сходство еще до того, как сам Пушкин стал его педалировать. Показательно, например, что Катенин в стихотворении «Старая быль», направленном против Пушкина, задевал и Карамзина

Как наследие русского символизма отразилось в поэтике Мандельштама? Как он сам прописывал и переписывал свои отношения с ним? Как эволюционировало отношение Мандельштама к Александру Блоку? Американский славист Стюарт Голдберг анализирует стихи Мандельштама, их интонацию и прагматику, контексты и интертексты, а также, отталкиваясь от знаменитой концепции Гарольда Блума о страхе влияния, исследует напряженные отношения поэта с символизмом и одним из его мощнейших поэтических голосов — Александром Блоком. Автор уделяет особое внимание процессу преодоления Мандельштамом символистской поэтики, нашедшему выражение в своеобразной игре с амбивалентной иронией.
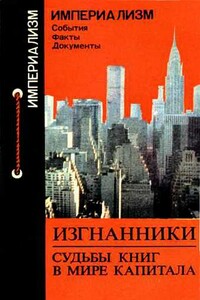
Очерки, эссе, информативные сообщения советских и зарубежных публицистов рассказывают о судьбах книг в современном капиталистическом обществе. Приведены яркие факты преследования прогрессивных книг, пропаганды книг, наполненных ненавистью к социалистическим государствам. Убедительно раскрыт механизм воздействия на умы читателей, рассказано о падении интереса к чтению, тяжелом положении прогрессивных литераторов.Для широкого круга читателей.
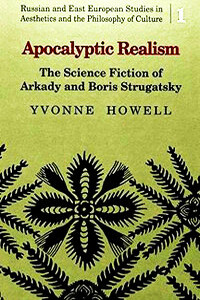
Данное исследование частично выполняет задачу восстановления баланса между значимостью творчества Стругацких для современной российской культуры и недополучением им литературоведческого внимания. Оно, впрочем, не предлагает общего анализа места произведений Стругацких в интернациональной научной фантастике. Это исследование скорее рассматривает творчество Стругацких в контексте их собственного литературного и культурного окружения.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассматриваются индивидуальные поэтические системы второй половины XX — начала XXI века: анализируются наиболее характерные особенности языка Л. Лосева, Г. Сапгира, В. Сосноры, В. Кривулина, Д. А. Пригова, Т. Кибирова, В. Строчкова, А. Левина, Д. Авалиани. Особое внимание обращено на то, как авторы художественными средствами исследуют свойства и возможности языка в его противоречиях и динамике.Книга адресована лингвистам, литературоведам и всем, кто интересуется современной поэзией.

В книге делается попытка подвергнуть существенному переосмыслению растиражированные в литературоведении канонические представления о творчестве видных английских и американских писателей, таких, как О. Уайльд, В. Вулф, Т. С. Элиот, Т. Фишер, Э. Хемингуэй, Г. Миллер, Дж. Д. Сэлинджер, Дж. Чивер, Дж. Апдайк и др. Предложенное прочтение их текстов как уклоняющихся от однозначной интерпретации дает возможность читателю открыть незамеченные прежде исследовательской мыслью новые векторы литературной истории XX века.

Книга известного литературоведа посвящена исследованию самоубийства не только как жизненного и исторического явления, но и как факта культуры. В работе анализируются медицинские и исторические источники, газетные хроники и журнальные дискуссии, предсмертные записки самоубийц и художественная литература (романы Достоевского и его «Дневник писателя»). Хронологические рамки — Россия 19-го и начала 20-го века.

Если рассматривать науку как поле свободной конкуренции идей, то закономерно писать ее историю как историю «победителей» – ученых, совершивших большие открытия и добившихся всеобщего признания. Однако в реальности работа ученого зависит не только от таланта и трудолюбия, но и от места в научной иерархии, а также от внешних обстоятельств, в частности от политики государства. Особенно важно учитывать это при исследовании гуманитарной науки в СССР, благосклонной лишь к тем, кто безоговорочно разделял догмы марксистско-ленинской идеологии и не отклонялся от линии партии.