Пушкин — либертен и пророк. Опыт реконструкции публичной биографии - [56]
Более сложным видится вопрос, насколько широко стало известно о привлечении поэта к «делу» о распространении «Андрея Шенье». Представляется, что и здесь Пушкин хранил несвойственную ему при других обстоятельствах скромность; единственный отзыв об этом принадлежит Н. Д. Киселеву и содержится в письме последнего к брату, П. Д. Киселеву (оба брата к кругу друзей поэта не принадлежали, но были весьма осведомлены в полицейской жизни империи[413]).
Итак, «незнание» Вяземского не случайно; Пушкин сам стремится придать своим отношениям с правительством значительно более благополучный характер, чем это было на самом деле. Притом, что именно зимой 1827 года, в пору значительного ухудшения отношений поэта с властью, ухудшения, грозившего ему действительными, а не мнимыми, как весной 1820 года, неприятностями, Пушкин не останавливается перед отправкой декабристам посланий «Пущину» и ‹«В Сибирь»›. Но об этом почти никто не знает, а всем бросается в глаза «осторожность» и «осмотрительность» поэта. В декабристской среде рождается легенда о том, что Пушкин будто бы сам стыдится собственного поведения и в январе 1827 года говорит А. Г. Муравьевой на прощание: «Я очень понимаю, почему эти господа не хотели принять меня в свое общество; я не стоил этой чести»[414]. (Здесь Муравьева, скорее всего, проецирует свои представления о Пушкине, опосредованные его поведением в 1827 году, на события и отношения, предшествовавшие Декабрьскому восстанию.)
Отрицательное отношение москвичей к «измененному», «новому» Пушкину в ситуации, когда поэт, казалось бы, мог рассчитывать на взаимопонимание, определялось тем, что Москва находилась в сильной оппозиции по отношению к новому императору и первоначальный «взрыв восторгов» по поводу возвращения поэта из ссылки был формой выражения этой оппозиционности. Современница поэта не случайно сравнила
впечатление, произведенное на публику появлением Пушкина в московском театре ‹…› с волнением толпы в зале дворянского собрания, когда вошел в нее Алексей Павлович Ермолов, только что оставивший кавказскую армию[415].
Кажется, что и декабрьскую трагедию, и июльскую казнь москвичи переживали чуть более аффектированно, чем в иных областях России. Осведомленный современник так вспоминал о настроении в Москве после восстания. В Москве
люди высшего сословия или, лучше сказать, люди высшего образования, смотрели на это событие иначе, чем в провинции. Кроме весьма естественного сочувствия либеральным идеям, многие, весьма многие семейства лишились своих лучших членов, которые по прямому или косвенному участию в заговоре или даже по тесным связям с обвиняемыми были взяты, отвезены в Петербург и томились в крепости, находясь под следствием[416].
Особенно резко оппозиционно по отношению к императору были настроены члены того московского кружка, из которого в основном и составился «Московский вестник». Так об этом рассказывал А. И. Кошелев:
Хотя в Москве все было тихо и скромно, однако многие, и мы в том числе, были крайне озабочены и взволнованы. Известия из Петербурга получались самые странные и одно другому противоречущие ‹…› мы ожидали всякий день с юга новых Мининых и Пожарских. Мы, немецкие философы, забыли Шеллинга и комп., ездили всякий день в манеж и фехтовальную залу учиться верховой езде и фехтованию и таким образом готовились к деятельности, которую мы себе предназначили ‹…›
Мы, молодежь, менее страдали, чем волновались, и даже почти желали быть взятыми и тем стяжать и известность и мученический венец. Эти события нас, между собой знакомых, чрезвычайно сблизили и, быть может, укрепили ту дружбу, которая связывала Веневитиновых, Одоевского, Киреевского, Рожалина, Титова, Шевырева и меня[417].
Возможно, что Пушкин не вполне осознавал, что в сентябре 1826 года москвичи и «короновали» его в пику императору, чьи собственные коронационные торжества в Москве проходили кисловато:
Описать или словами передать ужас и уныние, которые овладели всеми (после казни декабристов. — И. Н.) — нет возможности: словно каждый лишался своего брата или отца. Вслед за этим известием пришло другое о назначении дня коронования Императора Николая Павловича. Его въезд в Москву, самая коронация, балы придворные, а равно балы у иностранных послов и у некоторых Московских вельможей, — все происходило под тяжким впечатлением совершившихся казней. Весьма многие остались у себя в деревнях; и принимали участие в упомянутых торжествах только люди к тому обязанные по службе. Император был чрезвычайно мрачен; вид его производил на всех отталкивающее действие; будущее являлось более, чем грустным и тревожным

Как наследие русского символизма отразилось в поэтике Мандельштама? Как он сам прописывал и переписывал свои отношения с ним? Как эволюционировало отношение Мандельштама к Александру Блоку? Американский славист Стюарт Голдберг анализирует стихи Мандельштама, их интонацию и прагматику, контексты и интертексты, а также, отталкиваясь от знаменитой концепции Гарольда Блума о страхе влияния, исследует напряженные отношения поэта с символизмом и одним из его мощнейших поэтических голосов — Александром Блоком. Автор уделяет особое внимание процессу преодоления Мандельштамом символистской поэтики, нашедшему выражение в своеобразной игре с амбивалентной иронией.
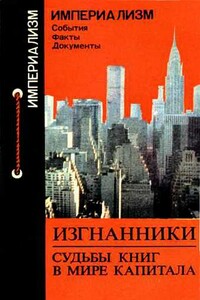
Очерки, эссе, информативные сообщения советских и зарубежных публицистов рассказывают о судьбах книг в современном капиталистическом обществе. Приведены яркие факты преследования прогрессивных книг, пропаганды книг, наполненных ненавистью к социалистическим государствам. Убедительно раскрыт механизм воздействия на умы читателей, рассказано о падении интереса к чтению, тяжелом положении прогрессивных литераторов.Для широкого круга читателей.
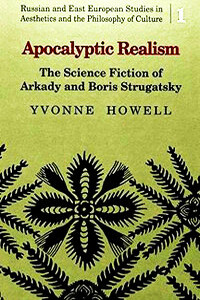
Данное исследование частично выполняет задачу восстановления баланса между значимостью творчества Стругацких для современной российской культуры и недополучением им литературоведческого внимания. Оно, впрочем, не предлагает общего анализа места произведений Стругацких в интернациональной научной фантастике. Это исследование скорее рассматривает творчество Стругацких в контексте их собственного литературного и культурного окружения.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассматриваются индивидуальные поэтические системы второй половины XX — начала XXI века: анализируются наиболее характерные особенности языка Л. Лосева, Г. Сапгира, В. Сосноры, В. Кривулина, Д. А. Пригова, Т. Кибирова, В. Строчкова, А. Левина, Д. Авалиани. Особое внимание обращено на то, как авторы художественными средствами исследуют свойства и возможности языка в его противоречиях и динамике.Книга адресована лингвистам, литературоведам и всем, кто интересуется современной поэзией.

В книге делается попытка подвергнуть существенному переосмыслению растиражированные в литературоведении канонические представления о творчестве видных английских и американских писателей, таких, как О. Уайльд, В. Вулф, Т. С. Элиот, Т. Фишер, Э. Хемингуэй, Г. Миллер, Дж. Д. Сэлинджер, Дж. Чивер, Дж. Апдайк и др. Предложенное прочтение их текстов как уклоняющихся от однозначной интерпретации дает возможность читателю открыть незамеченные прежде исследовательской мыслью новые векторы литературной истории XX века.

Книга известного литературоведа посвящена исследованию самоубийства не только как жизненного и исторического явления, но и как факта культуры. В работе анализируются медицинские и исторические источники, газетные хроники и журнальные дискуссии, предсмертные записки самоубийц и художественная литература (романы Достоевского и его «Дневник писателя»). Хронологические рамки — Россия 19-го и начала 20-го века.

Если рассматривать науку как поле свободной конкуренции идей, то закономерно писать ее историю как историю «победителей» – ученых, совершивших большие открытия и добившихся всеобщего признания. Однако в реальности работа ученого зависит не только от таланта и трудолюбия, но и от места в научной иерархии, а также от внешних обстоятельств, в частности от политики государства. Особенно важно учитывать это при исследовании гуманитарной науки в СССР, благосклонной лишь к тем, кто безоговорочно разделял догмы марксистско-ленинской идеологии и не отклонялся от линии партии.