Пушкин — либертен и пророк. Опыт реконструкции публичной биографии - [16]
Не скоро увижу я вас; здешние обстоятельства пахнут долгой, долгой разлукой! молю Феба и казанскую богоматерь, чтоб возвратился я к вам с молодостью, воспоминаньями и еще новой поэмой (XIII, 28).
В этом письме пребывание в Кишиневе еще впрямую не оценивается как изгнание, и «разлука» подразумевает не просто безвыездное сидение в Кишиневе, но какие-то дальние поездки; однако параллель между собственной судьбой и судьбой Овидия, «изгнанного» «хитрым Августом», уже просматривается определенно; хотя строка «Забыл я вечный ваш туман» еще реминисцирует «туманную родину» из стихотворения «Погасло дневное светило…», то есть «байроновская» тема плавно сменяется здесь «Овидиевой».
О том, что свое пребывание в Кишиневе до конца весны 1821 года Пушкин не считал изгнанием, свидетельствует также признание, которое поэт сделал случайному кишиневскому собеседнику Ф. Н. Лугинину в конце июня 1820 года. Лугинин вспоминает:
Его ‹Пушкина› хотели послать в Сибирь или Соловецкий монастырь, но государь простил его, и как он прежде просился еще в южную Россию, то и послали его в Кишинев ‹…› Также в Москву етой зимой хочет он ехать, чтоб иметь дуель с одним графом Толстым, Американцем[117].
Сообщенное Лугининым полностью подтверждается тем, что позднее писал сам Пушкин в письме П. А. Вяземскому:
Ты упрекаешь меня в том, что из Кишенева, под эгидою ссылки, печатаю ругательства на человека, живущего в Москве (Ф. И. Толстого-Американца. — И. Н.). Но тогда я не сомневался в своем возвращении. Намерение мое было ‹е›хать в Москву, где только и могу совершен‹но› очиститься (XIII, 43).
Заметим, что и имя Толстого, и связанный с ним мотив «мщения» сопряжены с темой добровольного отъезда. К этому же тематическому комплексу следует отнести мотив «неверных друзей» («минутной младости минутные друзья», «неверные друзья»). И в этом отношении здесь есть противопоставление теме «изгнания»; мотив мщения уходит и заменяется мотивом терпения, а мотив «неверных друзей» — мотивом «парнасского братства», «Дружбы» с прописной буквы. Подспудно присутствующий в первом тематическом комплексе мотив «толпы» сменяется мотивом «неправедной власти» («хитрый Август»). Объяснить эти различия простой сменой культурных ориентаций не представляется возможным. Наша работа посвящена поискам биографического обоснования обоих тематических комплексов.
В январе 1820 года в жизни Пушкина произошло событие, которое, по счастью, не стало слагаемым его публичной биографии, но которое по своему реальному драматизму превзошло почти все из того, что поэт до той поры пережил: по Петербургу разнеслись слухи о том, что Пушкин был привезен в полицию и там высечен. Источником слухов было письмо Ф. И. Толстого-Американца А. А. Шаховскому, написанное в ноябре 1819 года[118].
Впечатление, произведенное на него этим известием, Пушкин описал в черновике неотправленного письма Александру I, написанном между июлем и концом сентября 1825 года:
Необдуманные речи, сатирические стихи [обратили на меня внимание в обществе], распространились сплетни, будто я был отвезен в тайную канцелярию и высечен.
До меня позже всех дошли эти сплетни, сделавшиеся общим достоянием ‹…› я размышлял, не следует ли мне покончить с собой или убить — В‹аше величество(?)›. ‹…›
Таковы были мои размышления. Я поделился ими с одним другом, и он вполне согласился со мной. — Он посоветовал мне предпринять шаги перед властями в целях реабилитации — я чувствовал бесполезность этого.
Я решил тогда вкладывать в свои речи и писания столько неприличия, столько дерзости, что власть вынуждена была бы наконец отнестись ко мне как к преступнику; я надеялся на Сибирь или на крепость как на средство к восстановлению чести (XIII, 227–228; перев. с франц. на с. 548–549, конъектура ПСС).
Перед нами тот автобиографический контекст, который Пушкин создает уже в Михайловской ссылке, чтобы объяснить свои стихотворения и поступки весны 1820 года. Вариативность и избирательность этого контекста становятся очевидны, если сравнить содержание данного черновика с содержанием более беллетризованного текста, так называемого «‹Воображаемого разговора с Александром I›», написанного примерно полугодом ранее, ориентировочно в конце 1824 года. Здесь рассказ о сплетне и о стремлении попасть в «Сибирь или крепость», чтобы восстановить честь, отсутствует. Зато содержится утверждение, что
всякое слово вольное, всякое сочинение противузаконное приписывают мне так, как всякие остроумные вымыслы к‹нязю› Ц‹ицианову›. От дурных стихов не отказываюсь, надеясь на добрую славу своего имени, а от хороших, признаюсь, и силы нет отказываться (XI, 23).
«Воображаемый разговор…» фактически подтверждает основательность политических претензий правительства по отношению к Пушкину и закрепляет за ним роль поэта оппозиции. В дальнейшем, как мы видели (имеется в виду более позднее неотправленное письмо императору), этот мотив уходит, и свое поведение Пушкин объясняет исключительно личными мотивами и трагическими обстоятельствами. Это последнее обращение поэта к императору Александру носит почти исповедальный характер, что отчасти может свидетельствовать в пользу его большей истинности. (Естественно, не следует упускать из виду и существенную жанровую разницу между письмом и художественным произведением: «Воображаемый разговор…», конечно, не предназначался Пушкиным для отсылки императору.) И действительно, восстановление личной чести стало главной жизненной задачей Пушкина весной 1820 года, ибо, как ни был гнусен слух сам по себе, но еще страшнее было то, что часть публики поверила сплетне; так, В. Н. Каразин прямо писал об этом управляющему Министерством внутренних дел графу В. П. Кочубею:

Как наследие русского символизма отразилось в поэтике Мандельштама? Как он сам прописывал и переписывал свои отношения с ним? Как эволюционировало отношение Мандельштама к Александру Блоку? Американский славист Стюарт Голдберг анализирует стихи Мандельштама, их интонацию и прагматику, контексты и интертексты, а также, отталкиваясь от знаменитой концепции Гарольда Блума о страхе влияния, исследует напряженные отношения поэта с символизмом и одним из его мощнейших поэтических голосов — Александром Блоком. Автор уделяет особое внимание процессу преодоления Мандельштамом символистской поэтики, нашедшему выражение в своеобразной игре с амбивалентной иронией.

Виктор Гюго — имя одновременно знакомое и незнакомое для русского читателя. Автор бестселлеров, известных во всём мире, по которым ставятся популярные мюзиклы и снимаются кинофильмы, и стихов, которые знают только во Франции. Классик мировой литературы, один из самых ярких деятелей XIX столетия, Гюго прожил долгую жизнь, насыщенную невероятными превращениями. Из любимца королевского двора он становился политическим преступником и изгнанником. Из завзятого парижанина — жителем маленького островка. Его биография сама по себе — сюжет для увлекательного романа.
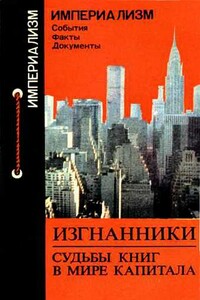
Очерки, эссе, информативные сообщения советских и зарубежных публицистов рассказывают о судьбах книг в современном капиталистическом обществе. Приведены яркие факты преследования прогрессивных книг, пропаганды книг, наполненных ненавистью к социалистическим государствам. Убедительно раскрыт механизм воздействия на умы читателей, рассказано о падении интереса к чтению, тяжелом положении прогрессивных литераторов.Для широкого круга читателей.
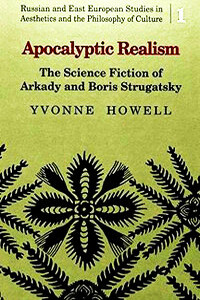
Данное исследование частично выполняет задачу восстановления баланса между значимостью творчества Стругацких для современной российской культуры и недополучением им литературоведческого внимания. Оно, впрочем, не предлагает общего анализа места произведений Стругацких в интернациональной научной фантастике. Это исследование скорее рассматривает творчество Стругацких в контексте их собственного литературного и культурного окружения.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассматриваются индивидуальные поэтические системы второй половины XX — начала XXI века: анализируются наиболее характерные особенности языка Л. Лосева, Г. Сапгира, В. Сосноры, В. Кривулина, Д. А. Пригова, Т. Кибирова, В. Строчкова, А. Левина, Д. Авалиани. Особое внимание обращено на то, как авторы художественными средствами исследуют свойства и возможности языка в его противоречиях и динамике.Книга адресована лингвистам, литературоведам и всем, кто интересуется современной поэзией.

В книге делается попытка подвергнуть существенному переосмыслению растиражированные в литературоведении канонические представления о творчестве видных английских и американских писателей, таких, как О. Уайльд, В. Вулф, Т. С. Элиот, Т. Фишер, Э. Хемингуэй, Г. Миллер, Дж. Д. Сэлинджер, Дж. Чивер, Дж. Апдайк и др. Предложенное прочтение их текстов как уклоняющихся от однозначной интерпретации дает возможность читателю открыть незамеченные прежде исследовательской мыслью новые векторы литературной истории XX века.

Книга известного литературоведа посвящена исследованию самоубийства не только как жизненного и исторического явления, но и как факта культуры. В работе анализируются медицинские и исторические источники, газетные хроники и журнальные дискуссии, предсмертные записки самоубийц и художественная литература (романы Достоевского и его «Дневник писателя»). Хронологические рамки — Россия 19-го и начала 20-го века.

Если рассматривать науку как поле свободной конкуренции идей, то закономерно писать ее историю как историю «победителей» – ученых, совершивших большие открытия и добившихся всеобщего признания. Однако в реальности работа ученого зависит не только от таланта и трудолюбия, но и от места в научной иерархии, а также от внешних обстоятельств, в частности от политики государства. Особенно важно учитывать это при исследовании гуманитарной науки в СССР, благосклонной лишь к тем, кто безоговорочно разделял догмы марксистско-ленинской идеологии и не отклонялся от линии партии.