Пушкин — либертен и пророк. Опыт реконструкции публичной биографии - [109]
И конечно, таким же, как Николай Юсупов, квазилитературным персонажем стал для поколения Достоевского Федор Толстой-Американец. Ю. М. Лотман указал, что Американец был прототипом Зарецкого в «Евгении Онегине»[783], и Пушкин, характеризуя своего персонажа, подчеркивает свойственную прототипу двойственность, выраженную в противопоставлении сердца и разума:
«Я ваши мысли знаю. Сердце у вас лучше головы», — говорит отцу проницательный Алеша Карамазов (XIV, 124). «У меня-то сердце лучше головы? Господи, да еще кто это говорит?» — отвечает ему Федор Павлович. Вопрос не лишний, потому что говорит о противопоставлении разума и сердца не кто иной, как Пушкин, используя его для характеристики Пестеля в дневниковой записи от 9 апреля 1821 года: «9 апреля, утро провел с П‹естелем›: умный человек во всем смысле этого слова. Mon cœur est matérialiste, говорит он, mais ma raison s’y refuse» (Сердцем я материалист, но мой разум этому противится (франц.)). Приведенная дневниковая запись Пушкина могла быть известна Достоевскому по публикации Е. И. Якушкина, осуществленной в 1859 году[784].
Как видно из этой записи, противопоставление разума и сердца помещено Пушкиным в контекст размышлений о религии. Противопоставление ищущего Бога разума и критически настроенного сердца принадлежало самому Пушкину не меньше, чем Пестелю, что нашло отражение в одном из ранних стихотворений «Безверие» (1817). Пушкин завершил им свою учебу в Лицее, сделав его «выпускным» произведением: «Ум ищет божества, а сердце не находит» (I, 243). Опубликованное при жизни поэта, стихотворение входило в собрания сочинений Пушкина, начиная с посмертного и включая анненковское (I, 477). Фоном, если не поводом к его написанию, послужили упреки Пушкину в «безверии сердца», о которых нам известно из позднейших воспоминаний о лицейском периоде. «Его ‹Пушкина› сердце холодно и пусто; в нем нет ни любви, ни религии; может быть, оно так пусто, как никогда еще не бывало юношеское сердце», — писал директор Лицея Энгельгардт[785]. Это мнение повторил и усилил одноклассник поэта по Лицею М. А. Корф: «…Пушкин, ни на школьной скамейке, ни после в свете, не имел ничего привлекательного в своем обращении… В нем не было ни внешней, ни внутренней религии, ни высших, нравственных чувств…»[786]
Оба мнения, Энгельгардта и Корфа (под криптонимом М.А.К.), привел в своей книге «Пушкин в Александровскую эпоху» П. В. Анненков. Вышедшая в 1874 году, незадолго до начала работы над «Братьями Карамазовыми», она во многом определила представления современников о Пушкине[787]. Здесь Анненков впервые опубликовал письмо Пушкина из Одессы к неизвестному, где поэт признавался в том, что «берет уроки чистого афеизма» (XIII, 92). Подробно говорилось об участии Пушкина в «Зеленой лампе», которую Анненков с полным основанием назвал «оргиаческим обществом»[788]. В отличие от первой своей книги, «Материалы к биографии Пушкина» (1855), во второй Анненков значительно менее активно проводил свою любимую мысль о моральном перерождении поэта, наступившем в Михайловском во время работы поэта над «Борисом Годуновым». Вместо того чтобы убедить современников Достоевского в профетическом, национально ориентированном характере творчества Пушкина и самой личности поэта, новая биография утверждала читателя в представлении о двойственности пушкинской личности. Сам Анненков осознавал этот эффект своей книги, хотя и видел свою творческую задачу в преодолении «дв[ух] противоположных воззрении[й] на Пушкина, существующи[х] доныне в большинстве нашего общества, из которых одно представляет его себе прототипом демонической натуры, не признававшей ничего святого на земле, кроме своих личных или авторских интересов, а другое, наоборот, целиком переносит на него самого всю нежность, свежесть и задушевность его лирических произведений, считая человека и поэта за одно и то же духовное лицо…»

Как наследие русского символизма отразилось в поэтике Мандельштама? Как он сам прописывал и переписывал свои отношения с ним? Как эволюционировало отношение Мандельштама к Александру Блоку? Американский славист Стюарт Голдберг анализирует стихи Мандельштама, их интонацию и прагматику, контексты и интертексты, а также, отталкиваясь от знаменитой концепции Гарольда Блума о страхе влияния, исследует напряженные отношения поэта с символизмом и одним из его мощнейших поэтических голосов — Александром Блоком. Автор уделяет особое внимание процессу преодоления Мандельштамом символистской поэтики, нашедшему выражение в своеобразной игре с амбивалентной иронией.

Виктор Гюго — имя одновременно знакомое и незнакомое для русского читателя. Автор бестселлеров, известных во всём мире, по которым ставятся популярные мюзиклы и снимаются кинофильмы, и стихов, которые знают только во Франции. Классик мировой литературы, один из самых ярких деятелей XIX столетия, Гюго прожил долгую жизнь, насыщенную невероятными превращениями. Из любимца королевского двора он становился политическим преступником и изгнанником. Из завзятого парижанина — жителем маленького островка. Его биография сама по себе — сюжет для увлекательного романа.
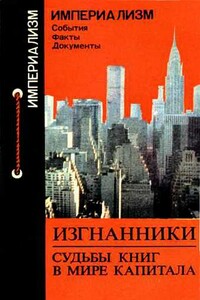
Очерки, эссе, информативные сообщения советских и зарубежных публицистов рассказывают о судьбах книг в современном капиталистическом обществе. Приведены яркие факты преследования прогрессивных книг, пропаганды книг, наполненных ненавистью к социалистическим государствам. Убедительно раскрыт механизм воздействия на умы читателей, рассказано о падении интереса к чтению, тяжелом положении прогрессивных литераторов.Для широкого круга читателей.
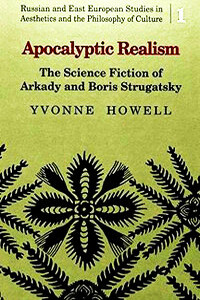
Данное исследование частично выполняет задачу восстановления баланса между значимостью творчества Стругацких для современной российской культуры и недополучением им литературоведческого внимания. Оно, впрочем, не предлагает общего анализа места произведений Стругацких в интернациональной научной фантастике. Это исследование скорее рассматривает творчество Стругацких в контексте их собственного литературного и культурного окружения.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассматриваются индивидуальные поэтические системы второй половины XX — начала XXI века: анализируются наиболее характерные особенности языка Л. Лосева, Г. Сапгира, В. Сосноры, В. Кривулина, Д. А. Пригова, Т. Кибирова, В. Строчкова, А. Левина, Д. Авалиани. Особое внимание обращено на то, как авторы художественными средствами исследуют свойства и возможности языка в его противоречиях и динамике.Книга адресована лингвистам, литературоведам и всем, кто интересуется современной поэзией.

В книге делается попытка подвергнуть существенному переосмыслению растиражированные в литературоведении канонические представления о творчестве видных английских и американских писателей, таких, как О. Уайльд, В. Вулф, Т. С. Элиот, Т. Фишер, Э. Хемингуэй, Г. Миллер, Дж. Д. Сэлинджер, Дж. Чивер, Дж. Апдайк и др. Предложенное прочтение их текстов как уклоняющихся от однозначной интерпретации дает возможность читателю открыть незамеченные прежде исследовательской мыслью новые векторы литературной истории XX века.

Книга известного литературоведа посвящена исследованию самоубийства не только как жизненного и исторического явления, но и как факта культуры. В работе анализируются медицинские и исторические источники, газетные хроники и журнальные дискуссии, предсмертные записки самоубийц и художественная литература (романы Достоевского и его «Дневник писателя»). Хронологические рамки — Россия 19-го и начала 20-го века.

Если рассматривать науку как поле свободной конкуренции идей, то закономерно писать ее историю как историю «победителей» – ученых, совершивших большие открытия и добившихся всеобщего признания. Однако в реальности работа ученого зависит не только от таланта и трудолюбия, но и от места в научной иерархии, а также от внешних обстоятельств, в частности от политики государства. Особенно важно учитывать это при исследовании гуманитарной науки в СССР, благосклонной лишь к тем, кто безоговорочно разделял догмы марксистско-ленинской идеологии и не отклонялся от линии партии.