Пушкин. Духовный путь поэта. Книга вторая. Мир пророка - [102]
Но одновременно у представителей данного направления, определившегося в разных поколениях и в разных эпохах жизни России (как в период конца XIX — начала XX века, до русской революции, так и в период эмиграции) больше занимала духовная составляющая русской культуры, ее своеобразие с точки зрения самых принципиальных философских вопросов. И здесь без Пушкина трудно было обойтись.
Такое отношение к Пушкину — как одновременно к непосредственному материалу русской культуры (литературы прежде всего), так и к определенного рода исходной точке духовного возрастания целой нации было присуще всем им без исключения (разве что особым образом высказывался Владимир Соловьев, о чем сказано ранее).
Д. Мережковский, и В. Розанов, и Вячеслав Иванов, и о. Сергий Булгаков, и Л. Шестов, и И. Ильин, и Г. Федотов, и С. Франк, и П. Струве, и Н. Бердяев, и В. Зеньковский и иные представители русской религиозной философской мысли были едины в понимании Пушкина как средоточия прежних достижений и открытий русской культуры, но и как символа потенций развития духовной жизни русского народа.
Обратимся к наследию одного из самых ярких мыслителей этого направления — о. Сергия Булгакова в аспекте его подходов к русскому гению. Мы вкратце рассмотрим его работу «Жребий Пушкина», прочитанную в виде лекции в дни памяти 100-летия со времени смерти А. С. Пушкина в 1937 году в Париже.
Опять-таким выделим особый — священнический — взгляд его на пушкинский мир, главное — на его духовное развитие. Приведем центральное рассуждение о. Сергия на сей счет:
— «…Определяющим началом в мышлении Пушкина в пору его зрелости было его духовное возвращение на родину, конкретный историзм в мышлении, почвенность. В этом же контексте он понимал и значение православия в исторических судьбах русского народа. Последнее, естественно, пришло вместе с преодолением безбожия и связанной с этим переоценкой ценностей. Действительно, мог ли Пушкин, с его проникающим в глубину вещей взором, остаться при скудной и слепой доктрине безбожия и не постигнуть всего величия и силы христианства? Только бесстыдство и тупоумие способны утверждать безбожие Пушкина перед лицом неопровержимых свидетельств его жизни, как и его поэзии. Переворот или естественный переход Пушкина от неверия (в котором, впрочем, и раньше было больше легкомыслия и снобизма, нежели серьезного умонастроения) совершается в середине 20-х годов, когда в Пушкине мы наблюдаем определенно начавшуяся религиозную жизнь. Ее он в общем, по своему обычаю, таил, но о ней он как бы проговаривался в своем творчестве, и тем ценнее для нас эти свидетельства. Можно ли перед лицом всех его религиозных вдохновений говорить о нерелигиозности Пушкина? Пушкин, как историк, как поэт и писатель, и наконец — что есть, может быть, самое важное и интимное — в своей семье, конечно, являет собой образ верующего христианина. Могло ли быть иначе для того, кто способен был прозирать глубину вещей, постигать действительность? В прошлом России он обрел образ летописца и слепца, прозревшего на мощах царевича Димитрия, в настоящем он услышал великопостную молитву и даже вразумление митрополита Филарета. Он постигал всю единственность Библии и Евангелия. Он крестя призывал благословение Христово на семью свою при жизни (во многих письмах) и перед смертью. Он умилялся перед детской простотой молитвы своей жены, он знал Бога. И, однако, если мы захотим определить меру этого ведения, жизни в Боге у Пушкина, то мы не можем не сказать, что личная его церковность не была достаточно серьезна и ответственна, вернее, она все-таки оставалась барски-поверхностной, с непреодоленным язычеством сословия и эпохи. Казалось, орлиному взору Пушкина все было открыто в русской жизни. Но как же взор его в жизни церковной не устремился дальше святогорского монастыря и даже м. Филарета? Как он не приметил, хотя бы через своих друзей Гоголя и Киреевского, изумительного явления Оптиной пустыни с ее старцами? Как мог он не знать о святителе Тихоне Задонском? И, самое главное, как мог он не слыхать о преподобном Серафиме, своем великом современнике? Как не встретились два солнца России? Последнее есть роковой и значительный, хотя и отрицательный, факт в жизни Пушкина, имеющий символическое значение: Пушкин прошел мимо преп. Серафима, его не приметя. Очевидно, не на путях исторического, бытового и даже мистического православия пролегала основная магистраль его жизни, судьбы его. Ему был свойственен свой личный путь и ообый удел, — предстояние пред Богом в служении поэта» [8, 277–279].
Вначале стоит еще раз упомянуть, что вполне вероятно о. Сергию не были известны все тексты Пушкина литературно-критического и публицистического толка, в которых тот высказывает немало суждений в том числе о духе Евангелия, о христианских ценностях в жизни человека (см. соответствующие места в других главах нашего издания), это, с одной стороны, с другой, сам — несколько скорретированный саном священника — подход Булгакова заметно поднимает планку требований к поэту, что не пришло бы ему в голову делать, говоря о христианском чувстве какого-либо обыкновенного своего прихожанина. Наконец, что касается его сожаления о том, что Пушкин не встретился с Серафимом Саровским («два солнца России»). Надо заметить, что Серафим Саровский скончался в первые дни 1833 года, это как раз годы переживаемого Пушкиным духовного преображения, которые имели определенную линию развития. Дал бы Бог одному и другому прожить д
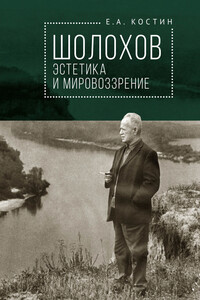
Профессор Евгений Костин широко известен как автор популярных среди читателей книг о русской литературе. Он также является признанным исследователем художественного мира М.А. Шолохова. Его подход связан с пониманием эстетики и мировоззрения писателя в самых крупных масштабах: как воплощение основных констант русской культуры. В новой работе автор демонстрирует художественно-мировоззренческое единство творчества М.А. Шолохова. Впервые в литературоведении воссоздается объемная и богатая картина эстетики писателя в целом.
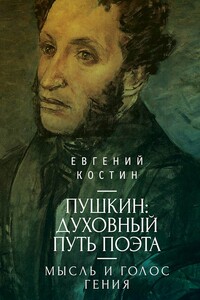
Новая книга известного слависта, профессора Евгения Костина из Вильнюса, посвящена творчеству А. С. Пушкина: анализу писем поэта, литературно-критических статей, исторических заметок, дневниковых записей Пушкина. Широко представленные выдержки из писем и публицистических работ сопровождаются комментариями автора, уточнениями обстоятельств написания и отношений с адресатами.
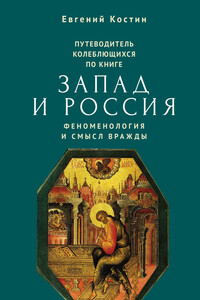
В настоящем издании представлены основные идеи и концепции, изложенные в фундаментальном труде известного слависта, философа и культуролога Е. Костина «Запад и Россия. Феноменология и смысл вражды» (СПб.: Алетейя, 2021). Автор предлагает опыт путеводителя, или синопсиса, в котором разнообразные подходы и теоретические положения почти 1000-страничной работы сведены к ряду ключевых тезисов и утверждений. Перед читателем предстает сокращенный «сценарий» книги, воссоздающий содержание и главные смыслы «Запада и России» без учета многообразных исторических, историко-культурных, философских нюансов и перечня сопутствующей аргументации. Книга может заинтересовать читателя, погруженного в проблематику становления и развития русской цивилизации, но считающего избыточным скрупулезное научное обоснование выдвигаемых тезисов.

Серия «Классики за 30 минут» позволит Вам в кратчайшее время ознакомиться с классиками русской литературы и прочитать небольшой отрывок из самого представленного произведения.В доступной форме авторы пересказали наиболее значимые произведения классических авторов, обозначили сюжетную линию, уделили внимание наиболее важным моментам и показали характеры героев так, что вы сами примите решение о дальнейшем прочтении данных произведений, что сэкономит вам время, либо вы погрузитесь полностью в мир данного автора, открыв для себя новые краски в русской классической литературе.Для широкого круга читателей.

Серия «Классики за 30 минут» позволит Вам в кратчайшее время ознакомиться с классиками русской литературы и прочитать небольшой отрывок из самого представленного произведения.В доступной форме авторы пересказали наиболее значимые произведения классических авторов, обозначили сюжетную линию, уделили внимание наиболее важным моментам и показали характеры героев так, что вы сами примите решение о дальнейшем прочтении данных произведений, что сэкономит вам время, либо вы погрузитесь полностью в мир данного автора, открыв для себя новые краски в русской классической литературе.Для широкого круга читателей.

Статья напечатана 18 июня 1998 года в газете «Днепровская правда» на украинском языке. В ней размышлениями о поэзии Любови Овсянниковой делится Виктор Федорович Корж, поэт. Он много лет был старшим редактором художественной литературы издательства «Промінь», где за 25 лет работы отредактировал более 200 книг. Затем заведовал кафедрой украинской литературы в нашем родном университете. В последнее время был доцентом Днепропетровского национального университета на кафедре литературы.Награжден почётной грамотой Президиума Верховного Совета УРСР и орденом Трудового Красного Знамени, почетным знаком отличия «За достижения в развитии культуры и искусств»… Лауреат премий им.

Ранний период петербургской жизни Некрасова — с момента его приезда в июле 1838 года — принадлежит к числу наименее документированных в его биографии. Мы знаем об этом периоде его жизни главным образом по поздним мемуарам, всегда не вполне точным и противоречивым, всегда смещающим хронологию и рисующим своего героя извне — как эпизодическое лицо в случайных встречах. Автобиографические произведения в этом отношении, вероятно, еще менее надежны: мы никогда не знаем, где в них кончается воспоминание и начинается художественный вымысел.По всем этим обстоятельствам биографические свидетельства о раннем Некрасове, идущие из его непосредственного окружения, представляют собою явление не совсем обычное и весьма любопытное для биографа.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Предисловие известного историка драмы Юрия Фридштейна к «Коллекции» — сборнику лучших пьес английского драматурга Гарольда Пинтера, лауреата Нобелевской премии 2005 года.