Психология - [7]
Но «свободное» перемещение тоже не ощущается, а «свобода» дана только в форме ПРЕОДОЛЕНИЯ препятствий, а не в акте беспрепятственного движения, перемещения.
В этом — весь Фихте, вся мудрость его образа сжатой пружины, ее внутреннего «напряжения».
Когда вся энергия сжатой пружины израсходована, — она перестает и «ощущать» ПРЕПЯТСТВИЯ, противодействующую ему косную силу противодействия, — как движение себя, натолкнувшееся на предмет и отразившееся обратно в себя.
(Ср. фихтеанскую трактовку «стоимости» у Бакхауса[13], — как косную силу «сопротивления» всей массы косных социальных «рефлексов» привычных социальных стереотипов, заранее ставящих пределы-границы развертыванию человеческой трудовой активности.)
Чем сильнее я «давлю» на предмет, тем сильнее «он» давит на меня. Чем я активнее — тем активнее предмет отпечатывается во мне, а я приписываю это «предмету», его активности, как изначальной силе.
Не мир отпечатывается «во мне», а я активно его ощупываю с помощью своих вполне телесных органов, прежде всего — кистью руки и кончиками пальцев. В них — «формирующая сила», образующая форму способность, — ОБРАЗ, — и именно в его изначальном значении, как ЭЙДОС, как «идея», как СХЕМА, в согласии с коей организуется «хаос ощущений».
Поэтому — что на первый взгляд странно — Фихте считает Канта прямым наследником Платона, — между ними он не видит посредника, в промежутке между Платоном и Кантом — «один мрак», тот же самый мрак, что и «от сотворения мира — до Платона»…
В самом деле — откуда может возникнуть схема «треугольника вообще»? Путем абстракции «одинакового» между всеми возможными треугольниками? Тогда «схема» — только схематизированный ОБРАЗ, точнее — то общее, что имеется «во всех образах».
Но мы не нуждаемся в полном переборе «всех» единичных случаев реализации «схемы», чтобы обрести «схему». Так, как не нуждаемся в «индуктивном обобщении» всех бесконечных случаев «треугольника» — нам достаточно ОДНОГО, чтобы извлечь из него схему, по которой мы далее спокойно будем строить ОБРАЗ любого другого треугольника.
Поэтому «схемы» — трансцендентальны, априорны по отношению к своему «воплощению» в материале ощущений, во внешнем по отношению к ним материале. Ср. рассуждения Шеллинга.
Фихте: «…теперь представьте себе того, кто мыслит эту вещь». Представление «Я» тут сразу же предполагается в том виде, в каком это «Я» непосредственно «дано» самому себе, — в акте «интроспекции».
То же и Мах:
«Установление границ между Я и миром — дело не легкое и не свободное от произвола. Будем рассматривать как Я совокупность связанных между собою представлений, т. е. то, что непосредственно существует только для них самих. Тогда наше Я состоит из воспоминаний наших переживаний вместе с обусловленными ими самими ассоциации…».
(Э. Мах, «Познание и заблуждение», изд. Скирмунта, М., 1909, с. 73).
Т.е. Я заранее «мыслится» как нечто совершенно отличное от мира и этому миру противопоставленное. А затем к нему начинают «подключаться» те вещи, с которыми это Я на самом деле неразрывно связано и без коих его «мыслить» было нельзя: мозг, «все тело» и т. д., а в итоге — и «весь дар», но уже в качестве «составных частей Я». Вот и становится возможной схема — «Я» само в себе противополагает себя самого (Я) — всему остальному (Не-Я), а «весь мир» делается = «Не-Я».
У Спинозы ход прямо противоположный, идущий не от «Я», а от мира и приводящий к Я как «составной части» этого мира. Движение — по той же самой ниточке-цепочке связей, но с обратного конца ее.
А.Г. Новохатько
Предисловие
Рукопись Э.В. Ильенкова «Психология» — удивительный по яркости и творческой мощи набросок, эскиз, выполненный уверенной рукой мастера, ясно передающий суть фундаментального теоретико-психологического и одновременно историко-философского замысла. Работа выполнена во второй половине 1970-х гг. (не ранее 1976 г.) и отражает внутренне связанную совокупность идей, находившихся в центре внимания автора в этот период. Огромное впечатление производит также проблемная насыщенность статьи. Несмотря на свою незавершенность, а отчасти и благодаря ей, публикуемая рукопись имеет дополнительную ценность: это действительно первичный, написанный на едином дыхании текст, который вводит нас в мир ильенковской мысли в самый момент ее рождения, в ее, так сказать, лабораторию, и бросает дополнительный свет на то, что принято называть «творческим почерком» автора.
Совсем не трудно предположить, что появление рукописи имело свои формальные предпосылки, т. е. вполне определенный историко-научный контекст — цикл статей и устных выступлений прежде всего А.Н. Леонтьева (а также А.Р. Лурии, П.Я. Гальперина, В.В. Давыдова, Д.Б. Эльконина, В.П. Зинченко) о насущных проблемах психологии и объективном содержании предмета психологии как науки. Но по существу «Психология» подготовлена более глубокой эволюцией ильенковской мысли, принявшей четко выраженное направление сначала в статье «Идеальное» («Философская энциклопедия», т. 2. М., 1962), а несколько позднее в опыте историко-философского, теоретического и экспериментально-психологического осознания уникальности исследований А.И. Мещерякова по тифлосурдопедагогике.

На вопрос «Что на свете всего труднее?» поэт-мыслитель Гёте отвечал в стихах так: «Видеть своими глазами то, что лежит перед ними».Народное образование, 3 (1968), с. 33–42.
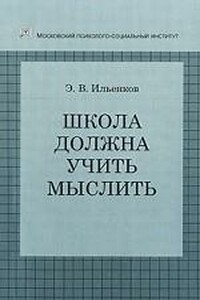
Как научить ребенка мыслить? Какова роль школы и учителя в этом процессе? Как формируются интеллектуальные, эстетические и иные способности человека? На эти и иные вопросы, которые и сегодня со всей остротой встают перед российской школой и учителями, отвечает выдающийся философ Эвальд Васильевич Ильенков (1924—1979).

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«Что такое событие?» — этот вопрос не так прост, каким кажется. Событие есть то, что «случается», что нельзя спланировать, предсказать, заранее оценить; то, что не укладывается в голову, застает врасплох, сколько ни готовься к нему. Событие является своего рода революцией, разрывающей историю, будь то история страны, история частной жизни или же история смысла. Событие не есть «что-то» определенное, оно не укладывается в категории времени, места, возможности, и тем важнее понять, что же это такое. Тема «события» становится одной из центральных тем в континентальной философии XX–XXI века, века, столь богатого событиями. Книга «Авантюра времени» одного из ведущих современных французских философов-феноменологов Клода Романо — своеобразное введение в его философию, которую сам автор называет «феноменологией события».

В книге, название которой заимствовано у Аристотеля, представлен оригинальный анализ фигуры животного в философской традиции. Животность и феномены, к ней приравненные или с ней соприкасающиеся (такие, например, как бедность или безумие), служат в нашей культуре своего рода двойником или негативной моделью, сравнивая себя с которой человек определяет свою природу и сущность. Перед нами опыт не столько даже философской зоологии, сколько философской антропологии, отличающейся от классических антропологических и по умолчанию антропоцентричных учений тем, что обращается не к центру, в который помещает себя человек, уверенный в собственной исключительности, но к периферии и границам человеческого.

Опубликовано в журнале: «Звезда» 2017, №11 Михаил Эпштейн Эти размышления не претендуют на какую-либо научную строгость. Они субъективны, как и сама мораль, которая есть область не только личного долженствования, но и возмущенной совести. Эти заметки и продиктованы вопрошанием и недоумением по поводу таких казусов, когда морально ясные критерии добра и зла оказываются размытыми или даже перевернутыми.

Книга содержит три тома: «I — Материализм и диалектический метод», «II — Исторический материализм» и «III — Теория познания».Даёт неплохой базовый курс марксистской философии. Особенно интересена тем, что написана для иностранного, т. е. живущего в капиталистическом обществе читателя — тем самым является незаменимым на сегодняшний день пособием и для российского читателя.Источник книги находится по адресу https://priboy.online/dists/58b3315d4df2bf2eab5030f3Книга ёфицирована. О найденных ошибках, опечатках и прочие замечания сообщайте на [email protected].

Эстетика в кризисе. И потому особо нуждается в самопознании. В чем специфика эстетики как науки? В чем причина ее современного кризиса? Какова его предыстория? И какой возможен выход из него? На эти вопросы и пытается ответить данная работа доктора философских наук, профессора И.В.Малышева, ориентированная на специалистов: эстетиков, философов, культурологов.