Психология - [6]
В этом случае схема «отпечатывается» в материале, а материал в субъекте — нет. Нож проходит сквозь масло, но, столкнувшись с камнем, — тупится, и камень отпечатывает свою форму в виде зазубрин на лезвии. Столкновение «субъекта» и «объекта» — схемы-рефлекса-инстинкта и препятствия на пути реализации ее — кончается двояко: либо форма действия отпечатывается в материале, либо наоборот, вплоть до полного разрушения схемы или формы материала.
Если же схема все-таки осуществляется, будучи скорректированной противодействием, то вот этот процесс и есть процесс, в ходе коего только и «существует» (возникает) ПСИХИКА, «сознание», как представленность формы вещи — в живом действии, отразившемся от предмета — в самое себя.
Это необходимо изобразить вполне наглядно. Предмет «возникает» в сознании как нечто ПРОТИВОСТОЯЩЕЕ действию, как GEGENSTAND. Вот в чем смысл тирады Шеррингтона. Фихте!
ОБРАЗ и есть СХЕМА, скорректированная формой препятствия ее осуществлению. Представленность формы предмета в форме действия, отражение. Когда предмет не оказывает никакого сопротивления действию, реализации схемы, от и не «отпечатывается» в ней.
Муха, бьющаяся о стекло. Инстинкт — движение по прямой, сознание — траектория, изогнутая в согласии с формой препятствия.
Рассмотрим «черепаху» Уолтера Грея[12], эту ситуацию моделирующую. Механизм тут — эффектор-рецептор: одновременное действию противодействие, — напряжение, возникающее внутри этой системы.
Механический образ «сознательной воли» у Фихте — образ ПРУЖИНЫ. Пока она развертывается в пустоте, внутри нее самой не возникает никакого напряжения, напротив, «внутреннее напряжение» как раз и уменьшается — это и есть «чувство освобождения». Чувство же противодействия ее «свободному» распространению — чувство препятствия.
Форма предмета отпечатывается в субъекте = в «изгибании» траектории его движения. Вода, ОБТЕКАЮЩАЯ камень. Рисунок русла — рисунок неодолимых для течения воды препятствий.
ОБРАЗ — не «призрак», не «субъективное состояние», интроспективно фиксируемое мозгом в себе самом. Образ — это форма вещи, отпечатавшаяся в теле субъекта, в виде того «изгиба», который внес в траекторию движения тела субъекта ПРЕДМЕТ, «объект», — это представленность формы предмета в форме траектории движения субъекта, субъективно испытываемая им как «вынужденное» — «несвободное» — изменение в схеме рефлекторно-осуществляемого движения.
У Прибрама — это «призрак» уже потому, что ОБРАЗ сразу же фиксируется как «состояние мозга», в то время как это лишь способ кодирования «образа» на «языке мозга», а вовсе не сам образ.
ОБРАЗ — в реальном теле реального субъекта, — там он и «локализуется», — сначала как событие «на границе» рецептора и предмета, — но предмет-посредник реально выступает как часть тела субъекта, а не как часть тела предмета, — палка в руках слепого, зонд в руке хирурга, — поскольку он осуществляет схему действия субъекта и реально — в действии — находится «по эту сторону субъекта», а не «по ту».
Поэтому-то и «ощущение» препятствия СДВИГАЕТСЯ на кончик палки, — «образ» рисуется кончиком палки, а не на ее рукоятке, — мозг управляет тут движением КОНЧИКА палки (кисти, карандаша, отвертки), — ибо именно он описывает КОНТУР ПРЕДМЕТА, а не рукоять.
Поэтому-то ОБРАЗ и есть наделенный «самочувствием» контур самого предмета рецепции, его геометрическая форма, а не контур движения кисти руки, держащей палку-зонд. Тем более — не «пространственный рисунок события внутри мозга», «в нервной системе».
Именно поэтому ОБРАЗ есть субъективно-данная форма вещи, а вовсе не внутреннее состояние моего тела, иллюзорно относимое к вещи, ложно переживаемое как ФОРМА ВНЕШНЕЙ ВЕЩИ.
Это именно форма ВНЕШНЕЙ вещи, копируемая действием рецептора-эффектора, и потому «переживаемая» именно там, где этот образ и существует («возникает»).
ОБРАЗ не «локализуется» мозгом в точке физического контакта рецептора с поверхностью предмета, а ВОЗНИКАЕТ (и существует) там с самого начала, и мозг его там и «переживает».
Он возникает в точке соприкосновения «кончика» рецептора — с поверхностью предмета, коей он касается, — и испытывается именно как факт сопротивления поверхности — движению кончика тела субъекта. Он — там. «Там» он и переживается. Именно там, где существует.
«Испытывает» реальное сопротивление поверхности не мозг, а именно система МОЗГ — РЕЦЕПТОР, система «мозг — кисть руки», или, если кисть держит свое искусственное продолжение, — то там, на конце зонда. Именно конец зонда, а не рукоять, непосредственно описывает форму вещи, контур ее поверхности — как контур своей собственной траектории по форме предмета.
И «ощущает» вовсе не мозг, а кончик рецептора. Образ это именно форма вещи, активно воспроизводимая действием «кончика» рецептора в самый момент его действия, его движения, «скользящего» по внешнему контуру.
Поэтому нет и не может быть «образа» пустого пространства, — пустое пространство не оказывает сопротивления, потому — не ощущается, — а «ощущается» лишь «свобода самого действия», — отсутствия препятствий.
Перемещаюсь «я» в пустом пространстве или остаюсь в покое — это неразрешимый для «самочувствия» — для интроспекции — вопрос.

На вопрос «Что на свете всего труднее?» поэт-мыслитель Гёте отвечал в стихах так: «Видеть своими глазами то, что лежит перед ними».Народное образование, 3 (1968), с. 33–42.
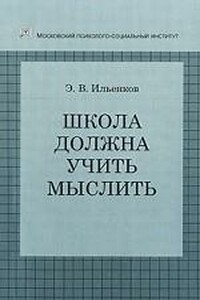
Как научить ребенка мыслить? Какова роль школы и учителя в этом процессе? Как формируются интеллектуальные, эстетические и иные способности человека? На эти и иные вопросы, которые и сегодня со всей остротой встают перед российской школой и учителями, отвечает выдающийся философ Эвальд Васильевич Ильенков (1924—1979).

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«Что такое событие?» — этот вопрос не так прост, каким кажется. Событие есть то, что «случается», что нельзя спланировать, предсказать, заранее оценить; то, что не укладывается в голову, застает врасплох, сколько ни готовься к нему. Событие является своего рода революцией, разрывающей историю, будь то история страны, история частной жизни или же история смысла. Событие не есть «что-то» определенное, оно не укладывается в категории времени, места, возможности, и тем важнее понять, что же это такое. Тема «события» становится одной из центральных тем в континентальной философии XX–XXI века, века, столь богатого событиями. Книга «Авантюра времени» одного из ведущих современных французских философов-феноменологов Клода Романо — своеобразное введение в его философию, которую сам автор называет «феноменологией события».

В книге, название которой заимствовано у Аристотеля, представлен оригинальный анализ фигуры животного в философской традиции. Животность и феномены, к ней приравненные или с ней соприкасающиеся (такие, например, как бедность или безумие), служат в нашей культуре своего рода двойником или негативной моделью, сравнивая себя с которой человек определяет свою природу и сущность. Перед нами опыт не столько даже философской зоологии, сколько философской антропологии, отличающейся от классических антропологических и по умолчанию антропоцентричных учений тем, что обращается не к центру, в который помещает себя человек, уверенный в собственной исключительности, но к периферии и границам человеческого.

Опубликовано в журнале: «Звезда» 2017, №11 Михаил Эпштейн Эти размышления не претендуют на какую-либо научную строгость. Они субъективны, как и сама мораль, которая есть область не только личного долженствования, но и возмущенной совести. Эти заметки и продиктованы вопрошанием и недоумением по поводу таких казусов, когда морально ясные критерии добра и зла оказываются размытыми или даже перевернутыми.

Книга содержит три тома: «I — Материализм и диалектический метод», «II — Исторический материализм» и «III — Теория познания».Даёт неплохой базовый курс марксистской философии. Особенно интересена тем, что написана для иностранного, т. е. живущего в капиталистическом обществе читателя — тем самым является незаменимым на сегодняшний день пособием и для российского читателя.Источник книги находится по адресу https://priboy.online/dists/58b3315d4df2bf2eab5030f3Книга ёфицирована. О найденных ошибках, опечатках и прочие замечания сообщайте на [email protected].

Эстетика в кризисе. И потому особо нуждается в самопознании. В чем специфика эстетики как науки? В чем причина ее современного кризиса? Какова его предыстория? И какой возможен выход из него? На эти вопросы и пытается ответить данная работа доктора философских наук, профессора И.В.Малышева, ориентированная на специалистов: эстетиков, философов, культурологов.