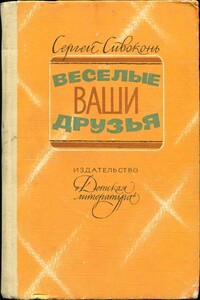Проза Александра Солженицына. Опыт прочтения - [35]
Этот природный скептицизм крестьянина, осознавшего, что сеяли рожь, а выросла лебеда, казалось бы, ведет к абсолютному фатализму, к растворению в не только непознаваемом, но и бессмысленном потоке, где все одно и все всего стоит, где нет ни добра, ни зла, а только течение. И мы готовы уже (разумеется, с должными поправками) вспомнить о Платоне Каратаеве и подивиться, как это Солженицын пошел на такой явный повтор классического сюжета о барине и мужике (ведь уговорил же он нас, что Нержин не барин). Тем паче что эпизод с немецким фатером, сумевшим понять через свою беду горесть Спиридона, вроде бы уверил нас в каратаевской незлобивости окончательно (толстовские мотивы здесь действительно отчетливы). И вроде бы отгорожен Спиридон от политики и идеологии и не думает о них:
Его родиной была — семья.
Его религией была — семья.
И социализмом тоже была семья.
(493)
И вроде бы можно убаюкаться этими ритмичными строками (а там желающий скажет: вот и Яконов ведь борется за свой дом), как вдруг складывающаяся на протяжении трех глав картина рушится. И на вопрос скептика Нержина «Это мыслимо разве — человеку на земле разобраться: кто прав? кто виноват?» (499) (вновь и вновь возникает — теперь в словах героя — толстовская мысль, толстовский взгляд на мир) скептик Спиридон отвечает «с такой готовностью, будто спрашивали его, какой дежурняк заступит дежурить с утра. — Я тебе скажу: волкодав — прав, а людоед — нет!» (499). И никакого скептицизма не остается в помине, и никакой «органичной жизни», и никакого Платона Каратаева.
Строго говоря, не остается вовсе ничего. Потому что, повторив поразившую Нержина пословицу (а разве могли бы мы жить без нее, без разящей ясности, которая сильнее и глубже любых честных и продуманных построений!), Спиридон дальше развивает апокалипсический сюжет: кличет на семью свою и «еще мильён людей», но — с «Отцом Усатым и всем заведением их» (499) самолет с хорошо знакомой читателям романа атомной бомбой. Что делать Нержину с измученным мужиком и его отчаянным «А ну! ну! кидай! рушь!!» (499)? Втолковывать ему, что после бомбы не будет и страдающего «по лагерях, по колхозах, по лесхозах» (499) народу? Или, поверив пословице, принять за ней и атомное проклятье?
Пушкинский мужик Архип в «Дубровском» пожалел кошку, но весело глядел на горящих в доме чиновников. Про русский бунт за последние два века говорено-переговорено. А ведь истовый крик Спиридона — тот самый бунт, а что оружием становится не дреколье, а чужая бомба, так, во-первых, пойди-ка с рогатиной на сталинскую махину, а во-вторых, бунтует-то Спиридон теоретически. Но оттого, что бунт вершится на словах, не менее страшно. До какого же отчаянья нужно довести ко всему пригодного, мастеровитого, душевно крепкого человека, если ему не жаль уже ни себя, ни близких, ни земли. Или вправду нет никакой России, а только сплошные лагеря, колхозы, лесхозы — тюрьма, гибель которой спасет человечество?
Разговор со Спиридоном — это не откровение, а еще одно искушение на пути Нержина. Искушение не исчезает оттого, что в роли искушающего, отчаявшегося (вспомним, что крайняя степень отчаяния — самоубийство — есть тягчайший грех) выступает один из самых дорогих автору героев. Спиридон не судится тем судом, что Рубин и Сологдин, но от этого отчаянье его не становится истиной и не может быть до конца разделено ни Нержиным, ни автором.
Антитезой страшному бунту Спиридона предстает в романе замысел Герасимовича, идея заговора «техно-элиты», своего рода потенциальных декабристов[115]. Герасимович, в отличие от Рубина и Сологдина, не играет в игры с враждебной системой и мало озабочен собственным «я». Он подчинен другой, внезапно озарившей его идее: «техно-элита» — единственный наследник ушедшей Руси (мысль эта пронзает героя после рассказа о легендарной картине Корина «Русь уходящая»), и, следовательно, ей принадлежит будущее. Надежда на военный переворот (и снова звучит мотив атомной бомбы) неотрывна от веры в прогресс, которой, видимо, и держится щуплый Герасимович.
Солженицын готовит декабристский поворот сюжета исподволь: жена Герасимовича перед свиданием вспоминает декабристок и горько иронизирует над их участью; в воспоминаниях Яконова Агния бранит Наташу Ростову за то, что она Пьера не пустит в декабристы; пушкинско-декабристские мотивы окрашивают эпизод празднованья дня рождения Нержина; наконец, диалог Нержина со Спиридоном не может не вызвать в памяти бесед Пьера Безухова с Платоном Каратаевым и их отголоска в эпилоге «Войны и мира». Но, тщательно прорабатывая будущий поворот идеологического сюжета, писатель предусмотрительно обходит фигуру самого идеолога — Герасимовича. Мы знаем о нем лишь то, что он не поддался на уговоры обессилевшей и любимой жены и отказался служить «ловцом человеков». Нет ни намека на его дискредитацию (жесткость отношения к жене не может быть поставлена в счет — слишком страшна предложенная цена свободы). Солженицыну легко было бы приписать герою честолюбие, жажду власти, цинизм — он этого не сделал. «Декабристский вариант» опровергается не потому, что Герасимович плох, и не потому, что Нержин видит его неисполнимость. Неприемлемость его заложена в самих импульсах, двинувших Герасимовича к его идее. Для Солженицына и Русь не ушла (не могла уйти вовсе, нынешний «разброд» — предвестье будущего возрождения), и прогресс далеко не абсолютен («Да если б я верил, что у человеческой истории существует перёд и зад! Но у этого спрута нет ни зада, ни переда» (652), — восклицает Нержин). Бунт и заговор, атомная бомба, падающая с американского самолета, или своя, но направленная против Сталина и его банды, равно несовместны с предназначением России.

Хотя со дня кончины Вадима Эразмовича Вацуро (30 ноября 1935 — 31 января 2000) прошло лишь восемь лет, в области осмысления и популяризации его наследия сделано совсем немало.

Книгу ординарного профессора Национального исследовательского университета – Высшей школы экономики (Факультет филологии) Андрея Немзера составили очерки истории русской словесности конца XVIII–XX вв. Как юношеские беседы Пушкина, Дельвига и Кюхельбекера сказались (или не сказались) в их зрелых свершениях? Кого подразумевал Гоголь под путешественником, похвалившим миргородские бублики? Что думал о легендарном прошлом Лермонтов? Над кем смеялся и чему радовался А. К. Толстой? Почему сегодня так много ставят Островского? Каково место Блока в истории русской поэзии? Почему и как Тынянов пришел к роману «Пушкин» и о чем повествует эта книга? Какие смыслы таятся в названии романа Солженицына «В круге первом»? Это далеко не полный перечень вопросов, на которые пытается ответить автор.
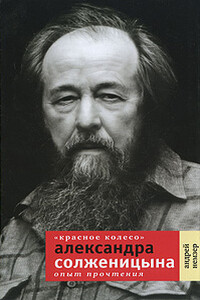
В книге известного критика и историка литературы, профессора кафедры словесности Государственного университета – Высшей школы экономики Андрея Немзера подробно анализируется и интерпретируется заветный труд Александра Солженицына – эпопея «Красное Колесо». Медленно читая все четыре Узла, обращая внимание на особенности поэтики каждого из них, автор стремится не упустить из виду целое завершенного и совершенного солженицынского эпоса. Пристальное внимание уделено композиции, сюжетостроению, системе символических лейтмотивов.

Книгу ординарного профессора Национального исследовательского университета – Высшей школы экономики (Факультет филологии) Андрея Немзера составили очерки истории русской словесности конца XVIII–XX вв. Как юношеские беседы Пушкина, Дельвига и Кюхельбекера сказались (или не сказались) в их зрелых свершениях? Кого подразумевал Гоголь под путешественником, похвалившим миргородские бублики? Что думал о легендарном прошлом Лермонтов? Над кем смеялся и чему радовался А. К. Толстой? Почему сегодня так много ставят Островского? Каково место Блока в истории русской поэзии? Почему и как Тынянов пришел к роману «Пушкин» и о чем повествует эта книга? Какие смыслы таятся в названии романа Солженицына «В круге первом»? Это далеко не полный перечень вопросов, на которые пытается ответить автор.

Новая книга Андрея Немзера – пятая из серии «Дневник читателя», четыре предыдущих тома которой были выпущены издательством «Время» в 2004–2007 годах. Субъективную литературную хронику 2007 года составили рецензии на наиболее приметные книги и журнальные публикации, полемические заметки, статьи о классиках-юбилярах, отчеты о премиальных сюжетах и книжных ярмарках. В завершающем разделе «Круглый год» собраны историко-литературные работы, посвященные поэзии А. К. Толстого и его роману «Князь Серебряный», поэтическому наследию С.

В новую книгу волгоградского литератора вошли заметки о членах местного Союза писателей и повесть «Детский портрет на фоне счастливых и грустных времён», в которой рассказывается о том, как литература формирует чувственный мир ребенка. Книга адресована широкому кругу читателей.

«Те, кто читают мой журнал давно, знают, что первые два года я уделяла очень пристальное внимание графоманам — молодёжи, игравшей на сетевых литературных конкурсах и пытавшейся «выбиться в писатели». Многие спрашивали меня, а на что я, собственно, рассчитывала, когда пыталась наладить с ними отношения: вроде бы дилетанты не самого высокого уровня развития, а порой и профаны, плохо владеющие русским языком, не отличающие метафору от склонения, а падеж от эпиграммы. Мне казалось, что косвенным образом я уже неоднократно ответила на этот вопрос, но теперь отвечу на него прямо, поскольку этого требует контекст: я надеялась, что этих людей интересует (или как минимум должен заинтересовать) собственно литературный процесс и что с ними можно будет пообщаться на темы, которые интересны мне самой.

Эта книга рассказывает о том, как на протяжении человеческой истории появилась и параллельно с научными и техническими достижениями цивилизации жила и изменялась в творениях писателей-фантастов разных времён и народов дерзкая мысль о полётах людей за пределы родной Земли, которая подготовила в итоге реальный выход человека в космос. Это необычное и увлекательное путешествие в обозримо далёкое прошлое, обращённое в необозримо далёкое будущее. В ней последовательно передаётся краткое содержание более 150 фантастических произведений, а за основу изложения берутся способы и мотивы, избранные авторами в качестве главных критериев отбора вымышленных космических путешествий.
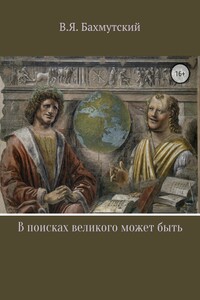
«В поисках великого может быть» – своего рода подробный конспект лекций по истории зарубежной литературы известного филолога, заслуженного деятеля искусств РФ, профессора ВГИК Владимира Яковлевича Бахмутского (1919-2004). Устное слово определило структуру книги, порой фрагментарность, саму стилистику, далёкую от академичности. Книга охватывает развитие европейской литературы с XII до середины XX века и будет интересна как для студентов гуманитарных факультетов, старшеклассников, готовящихся к поступлению в вузы, так и для широкой аудитории читателей, стремящихся к серьёзному чтению и расширению культурного горизонта.

Расшифровка радиопрограмм известного французского писателя-путешественника Сильвена Тессона (род. 1972), в которых он увлекательно рассуждает об «Илиаде» и «Одиссее», предлагая освежить в памяти школьную программу или же заново взглянуть на произведения древнегреческого мыслителя. «Вспомните то время, когда мы вынуждены были читать эти скучнейшие эпосы. Мы были школьниками – Гомер был в программе. Мы хотели играть на улице. Мы ужасно скучали и смотрели через окно на небо, в котором божественная колесница так ни разу и не показалась.
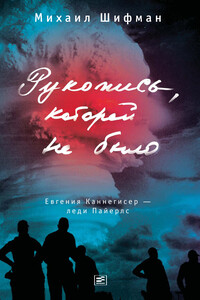
Неизвестные подробности о молодом Ландау, о предвоенной Европе, о том, как начиналась атомная бомба, о будничной жизни в Лос-Аламосе, о великих физиках XX века – все это читатель найдет в «Рукописи». Душа и сердце «джаз-банда» Ландау, Евгения Каннегисер (1908–1986) – Женя в 1931 году вышла замуж за немецкого физика Рудольфа Пайерлса (1907–1995), которому была суждена особая роль в мировой истории. Именно Пайерлс и Отто Фриш написали и отправили Черчиллю в марте 1940 года знаменитый Меморандум о возможности супербомбы, который и запустил англо-американскую атомную программу.

В сборник вошли восемь рассказов современных китайских писателей и восемь — российских. Тема жизни после смерти раскрывается авторами в первую очередь не как переход в мир иной или рассуждения о бессмертии, а как «развернутая метафора обыденной жизни, когда тот или иной роковой поступок или бездействие приводит к смерти — духовной ли, душевной, но частичной смерти. И чем пристальней вглядываешься в мир, который открывают разные по мировоззрению, стилистике, эстетическим пристрастиям произведения, тем больше проступает очевидность переклички, сопряжения двух таких различных культур» (Ирина Барметова)
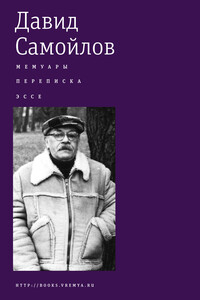
Книга «Давид Самойлов. Мемуары. Переписка. Эссе» продолжает серию изданных «Временем» книг выдающегося русского поэта и мыслителя, 100-летие со дня рождения которого отмечается в 2020 году («Поденные записи» в двух томах, «Памятные записки», «Книга о русской рифме», «Поэмы», «Мне выпало всё», «Счастье ремесла», «Из детства»). Как отмечает во вступительной статье Андрей Немзер, «глубокая внутренняя сосредоточенность истинного поэта не мешает его открытости миру, но прямо ее подразумевает». Самойлов находился в постоянном диалоге с современниками.

Мама любит дочку, дочка – маму. Но почему эта любовь так похожа на военные действия? Почему к дочерней любви часто примешивается раздражение, а материнская любовь, способная на подвиги в форс-мажорных обстоятельствах, бывает невыносима в обычной жизни? Авторы рассказов – известные писатели, художники, психологи – на время утратили свою именитость, заслуги и социальные роли. Здесь они просто дочери и матери. Такие же обиженные, любящие и тоскующие, как все мы.