Проза Александра Солженицына. Опыт прочтения [заметки]
1
Сколько возможно, тексты цитируются по этому изданию: Солженицын Александр. Собр. соч.: В 30 т. М.: Время, 2006 — … (на сегодня выпущен 21 том). Номера томов (римская цифра) и страниц (цифра арабская) даются в тексте, в скобках. В главах этой книги, посвященных рассказам, роману «В круге первом», повести «Раковый корпус», номера томов, в которых помещены эти тексты (соответственно I, II, III), опускаются (указываются только страницы). О системе отсылок в монографии о «Красном Колесе» см. в «Предварительных замечаниях» ко второй части книги. В цитатах сохраняются особенности авторской орфографии и пунктуации, о них см.: Солженицын Александр. Публицистика. Т. 3. С. 524–539. Все шрифтовые выделения в цитатах (курсив, разрядка, прописные буквы) принадлежат Солженицыну. В иных — немногочисленных — случаях дается помета: «курсив мой».
2
Тщанием М. Г. Петровой подготовлено удивительное издание: Солженицын Александр. В Круге первом: Роман. М.: Наука, 2006 (серия «Литературные памятники»).
3
Солженицын Александр. Публицистика: В 3 т. Ярославль: Верхне-Волжское книжное издательство, 1995. Т. 1. С. 8–9.
4
Цит. по: Слово пробивает себе дорогу: Сборник статей и документов об А. И. Солженицыне. 1962–1974. М.: Русский путь, 1998. С. 15–16.
5
Рассказ Солженицына первоначально назывался «Щ-854». По настоянию редакции «Нового мира» были изменены название (совершенно в советских условиях невозможное) и жанровое определение («для весу»); новое заглавье автор внутренне принял, но об уступке с «повестью» сожалел (XXVIII, 26–27) Ахматова и Чуковская читали машинопись еще не опубликованного рассказа с «промежуточным» заголовком.
6
Чуковская Лидия. Записки об Анне Ахматовой: В 3 т. М.: Согласие, 1997. Т. 2. С. 512; о последовавшей вскоре встрече Ахматовой и Солженицына см.: Там же. С. 532–533; ср. также: Солженицын Александр. Анна Ахматова // Солженицынские тетради: Материалы и исследования. М.: Русский путь, 2016. <Вып.> 5. С. 7–16.
7
Цит. по: Сараскина Л. И. Солженицын. М.: Молодая гвардия, 2009. С. 498.
8
Из статьи Н. Сергованцева «Трагедия одиночества и „сплошной быт“» («Октябрь». 1963. № 4); цит. по: «Ивану Денисовичу» полвека: Юбилейный сборник. 1962–2012. М.: Русский путь, 2012. С. 129, 132.
9
Ясное представление о «Борьбе за „Ивана Денисовича“ (1962–1965)» дает соответствующий раздел указанной выше книги. См. также: Сараскина Л. И. Солженицын и медиа в пространстве советской и постсоветской культуры. М.: Прогресс-Традиция, 2014. С. 63–123. Весьма впечатляют и резко неприязненные отклики на рассказ «простых читателей», в том числе — без сомнения искренние; см.: «Дорогой Иван Денисович!..»: Письма читателей. 1962–1964. М.: Русский путь, 2012. Составитель этого интереснейшего издания Г. А. Тюрина указывает: «Количественные пропорции положительных и отрицательных отзывов выдержаны (в сборнике. — А. Н.) в соответствии с содержимым единиц хранения в архивных фондах».
10
То же, на наш взгляд, должно сказать и об иных сочинениях Солженицына, будь то родившиеся в 1960-х рассказы и повесть «Раковый корпус» или казавшийся писателю на исходе 1950-х законченным роман «В круге первом».
11
12 декабря 1961 в дневнике Твардовского появляется запись: «Сильнейшее впечатление последних дней — рукопись А. Рязанского (Солонжицына), с которым встречусь сегодня». — Твардовский Александр. Новомирский дневник: В 2 т. М.: ПРОЗАиК, 2009. Т. 1. С. 68; «А. Рязанский» — псевдоним, значившийся в рукописи; фамилию писателя Твардовский расслышал неточно.
12
Солженицын Александр. Публицистика: В 3 т. Ярославль: Верхне-Волжское книжное издательство, 1997. Т. 3. С. 25.
13
Сопоставление силы «общественного резонанса» просто невозможно. В XIX веке не было ни чудовищных катастроф, что обрушились на Россию в первой половине XX столетия, ни огромной читательской аудитории.
14
Эти сочинения (как и лирические стихотворения 1946–1952 гг.) см.: Солженицын Александр. Собр. соч.: В 30 т. М., 2016. Т. 18 (= Раннее).
15
Солженицын Александр. Публицистика. Т. 2. С. 424.
16
Солженицын Александр. Публицистика. Т. 3. С. 21.
17
Солженицын Александр. Публицистика. Т. 3. С. 23.
18
Солженицын Александр. Публицистика. Т. 3. С. 23.
19
Это яркий (но далеко не единственный в рассказе!) знак идущей холодной войны, превращение которой в «горячую» не удивило бы героев Солженицына.
20
Работа над «Случаем…» шла в то время, когда набирался 11-й номер «Нового мира». По слову автора, рассказ писался «прямо для журнала, в первый раз в жизни» (XXVIII, 46). Уже 17 ноября редактор получил новую вещь, а на следующий день обсуждал ее с автором; см.: Твардовский Александр. Новомирский дневник. Т. 1. С. 127, 131. Замена в заголовке реального топонима придуманным «созвучным» была произведена для отвода незапланированных (не нужных автору!) ассоциаций с фамилией одного из самых одиозных советских литераторов, ярого сталиниста и противника «Нового мира», тогдашнего главного редактора журнала «Октябрь». Вот и пришлось Солженицыну временно обратить обычную домашнюю птицу (кочет — петух) в хищную.
21
Закономерно, что в рассказ из оставленной повести перенесен ряд сильных деталей, характеризующих как психологическое состояние героев (Нержина и Зотова), так и историческую атмосферу. Важные параллели отмечены в комментариях В. В. Радзишевского к тому XVIII Собрания сочинений.
22
Слуцкий Борис. Собр. соч.: В 3 т. М.: Художественная литература, 1991. Т. 1. С. 97.
23
Лотман Ю. М. Не-мемуары // Лотман Ю. М. Воспитание души. СПб.: Искусство — СПб, 2003. С. 11. («Не-мемуары» диктовались уже смертельно больным ученым в декабре 1992 — марте 1993 гг.) Нелишним кажется здесь сообщить, что 29 февраля 1962 г. «доктор филолог. наук, проф. Ю. Лотман, чл. КПСС с 1942 г.» направил в Комитет по Ленинским премиям в области литературы и искусства глубокий и проникновенный отзыв об «Одном дне Ивана Денисовича», заканчивающийся утверждением: «…присуждение повести А. Солженицына Ленинской премии будет глубоко верным и в литературном, и в политическом отношении шагом». — Солженицынские тетради: Материалы и исследования. М.: Русский путь, 2012. <Вып.> 1. С. 326–328.
24
Цит. по: Решетовская Наталья. Александр Солженицын и читающая Россия. М.: Советская Россия, 1990. С. 107. Разрядка дана автором книги.
25
Толстой Л. Н. Собр. соч.: В 20 т. М.: Художественная литература, 1964. Т. 14. С. 7.
26
Толстой Л. Н. Собр. соч.: В 20 т. М.: Художественная литература, 1964. Т. 14. С. 16–17.
27
Тургенев И. С. Полн. собр. соч.: В 30 т. Соч.: В 12 т. М.: Наука, 1982. Т. 10. С. 172.
28
Подробнее см. далее в главе II этой книги («Русская словесность на Матрёнином дворе»).
29
Солженицын Александр. Публицистика. Т. 1. С. 24–25.
30
Фрагмент письма Твардовскому см.: Решетовская Наталья. Александр Солженицын и читающая Россия. М.: Советская Россия, 1990. С. 139.
31
Замена одной нейтральной фамилии на другую была, видимо, внутренне необходима автору (читатели некомментированных изданий рассказа ее просто не могут воспринять), несомненно поэтически достраивающему жизненный сюжет. Реальная Матрёна могла рассказать Солженицыну о своей первой любви, обусловившей ее особые отношения с Фаддеем, но фантастическая атмосфера, окутывающая исповедь Матрёны, возникающий в ней символический (и много раз отзывающийся в других фрагментах текста) мотив топора, размышления о ходе времени и обусловленном им психологическом состоянии героини, решившейся на замужество, безусловно, домыслены Игнатьичем (литературным двойником автора). О значении поэтического достраивания реальности у Солженицына см. в главе «Жизнь и Поэзия в романе „В круге первом“».
32
Это зачин второй главки — Игнатьич прожил в Тальнове примерно пять месяцев (крещенский эпизод описан ранее). Конструкция «а я тоже…», формально указывая на симметрию в отношениях персонажей, на самом деле свидетельствует об ином. Матрёна не тревожит Игнатьича расспросами, потому что печальное его прошлое угадывает сама; Игнатьич, кое-что зная о былом Матрёны, пока не склонен размышлять о ее судьбе и личности.
33
Ср. после рассказа о неукротимой жадности Фаддея: «Перебрав тальновских, я понял, что Фаддей был в деревне такой не один» (145). «Такой не один», однако, не означает, что других не было вовсе.
34
Жуковский В. А. Полн. собр. соч. и писем: В 20 т. М.: Языки славянских культур, 2009. Т. 4. С. 170.
35
Сперва читатель узнает об одиночестве рассказчика («никто меня не ждал и не звал») и о том, что он «задержался с возвратом (в Россию. — А. Н.) годиков на десять» (116), — названный срок отсутствия персонажа в сочетании с точной датировкой действия («летом 1956 года») указывает не только на лагерь (тюрьму), но и на войну, с которой возвращались в 1945–1947 гг. (отсюда неопределенность временной конструкции). Позже о военном и лагерном опыте говорится определенно, но не акцентировано, словно бы к случаю: «…ещё лагерная телогрейка на ногах…»; «Ел я дважды в сутки, как на фронте»; «И когда невскоре я сам сказал ей, что много провёл в тюрьме…» (важна не столько информация об Игнатьиче, сколько понимающая реакция Матрёны); «Телогрейка эта была мне память, она грела меня в тяжёлые годы»; «Неприятно это очень, когда ночью приходят к тебе громко и в шинелях» (122; 123; 130; 137; 138). Подчеркну, что речь здесь идет о собственно тексте рассказа, изначально писавшегося в стол. Контекст публикации, последовавшей через два месяца после триумфа «Одного дня Ивана Денисовича», несомненно, придал автобиографическим мотивам большую определенность. О жизненном пути прежде никому неизвестного автора лагерной повести читатель был проинформирован заметкой П. Косолапова «Имя новое в нашей литературе» («Московский комсомолец». 1962. 28 ноября); см.: «Ивану Денисовичу» полвека: Юбилейный сборник. 1962–2012. М.: Русский путь, 2012. С. 39–40.
36
Джексон Роберт Луис. «Матрёнин двор»: Сотворение русской иконы // Солженицын: Мыслитель, историк, художник: Западная критика. 1974–2008. М.: Русский путь, 2010. С. 547 (перевод Б. А. Ерхова).
37
Джексон Роберт Луис. «Матрёнин двор»: Сотворение русской иконы // Солженицын: Мыслитель, историк, художник: Западная критика. 1974–2008. М.: Русский путь, 2010. С. 551, 552, 553. Последнее наблюдение серьезно колеблет главную мысль статьи, согласно которой Солженицын ищет идеал в дореволюционном прошлом. Меж тем для Солженицына злосчастья России (олицетворением которой можно счесть Матрёну) начались задолго до революции, что и обусловливает его обращение к классике, запечатлевшей не только красоту русского человека, но и его трагедию.
38
Некрасов Н. А. Полн. собр. соч.: В 15 т. Л.: Наука, 1982. Т. 5. С. 35. Реминисценция отмечена: Лекманов О. А. «От железной дороге подале, к озерам…» (о том, как устроено пространство в рассказе А. И. Солженицына «Матрёнин двор») // Лекманов О. А. Книга об акмеизме и другие работы. Томск: Водолей, 2000. С. 331; ср. также комментарии В. В. Радзишевского (598–599).
39
Тургенев И. С. Полн. собр. соч.: В 30 т. Соч.: В 12 т. М.: Наука, 1982. Т. 10. С. 172. Немаловажно, что, начиная с прижизненной публикации «Стихотворений в прозе» (1882), «Русский язык» замыкает предназначенный автором для печати цикл, следуя прямо за трагическо-скептической «Молитвой».
40
Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: в 10 т. Л.: Наука, 1977. Т. 2. С. 100; подробнее о пушкинском плане «Русского языка» см.: Немзер А. «Песнь о вещем Олеге и ее следствия» // Acta Slavica Estonica IV. Труды по русской и славянской филологии. Литературоведение, IX. Хрестоматийные тексты: русская педагогическая практика XIX в. и поэтический канон. Тарту: University of Tartu Press, 2013. С. 290. Следует отметить, что для «Песни о вещем Олеге» равно значимы сопряженные темы провидения (явленная сюжетно) и памяти (прямо обнаруживающаяся в финальных строках, но организующая повествовательную структуру текста).
41
Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. и писем: В 23 т. М.: Наука, 2012. Т. 7. Кн. 1. С. 103.
42
См. Тургенев И. С. Указ. соч. Т. 3. С. 447.
43
Некрасов Н. А. Указ. соч. С. 119, 126–127, 186–187.
44
Некрасов Н. А. Указ. соч. Т.4. С. 105, 80, 81.
45
Некрасов Н. А. Указ. соч. Т.4. С. 80.
46
Укажу на еще одну частную, но потому показательную перекличку в историях двух Матрён. «Уж будто не колачивал?» / Замялась Тимофеевна: / — Раз только, — тихим голосом / Промолвила она. (Некрасов Н. А. Указ. соч. Т. 5. С. 138); Филипп единственный раз побил жену из-за того, что та не сразу дала башмаки его сестре (золовке Матрёны). Ср.: «Меня сам ни разику не бил ‹…› То есть был-таки раз — я с золовкой поссорилась, он ложку мне об лоб расшибил» (134).
47
Лекманов О. А. Указ. соч. С. 331.
48
Некрасов Н. А. Указ. соч. Т. 5. С. 46.
49
Некрасов Н. А. Указ. соч. Т. 5. С. 221. Некрасов использовал народные прибаутки, записанные им еще в середине 1840-х гг. (Там же. С. 681–682; комментарий О. Б. Алексеевой); скорее всего, знал он и восходящий к сходным фольклорным источникам пушкинский набросок (1833; впервые опубликован в «анненковском» издании, 1855), где доминирует тема доброй памяти: «Сват Иван, как пить мы станем, / Непременно уж помянем / Трех Матрён, Луку с Петром, / Да Пахомовну потом». — Пушкин А. С. Указ. соч. Т. 3. С. 240.
50
Некрасов Н. А. Указ. соч. Т. 4. C. 81.
51
Ср. также словосочетание «безпритульная Матрёна» (135) — формально неверное (изба у Матрёны есть, говорится о ней в той же фразе!), но точное по существу.
52
Некрасов Н. А. Указ. соч. Т. 5. С. 233–234.
53
Ср. написанное в «вечной ссылке» стихотворение «Россия?» (1951): «Есть много Россий в России, / В России несхожих Россий. ‹…› Среди соплеменников диких / России я не нахожу… ‹…› В двухсотмиллионном массиве, / О, как ты хрупка и тонка, / Единственная Россия, / Неслышимая пока!..» (XVIII, 235–237).
54
И более скрыто — со старым богатырем, премудрой лесной девой и дорожкой, навсегда уводящей миленького.
55
Пушкин А. С. Указ. соч. Т. 3. С. 314 («…Вновь я посетил…»).
56
Эта общеизвестная строка служит названием 91-й главы «дантовского» романа «В круге первом» (арест и первые лубянские впечатления Володина) (II, 654).
57
Как Высокое Поле — миниатюрный рай, в котором можно обитать лишь человеку до грехопадения (не обремененному заботой о пище). Описывая оба локуса, Солженицын использует уменьшительные суффиксы, обретающие прямо противоположные значения; ср.: «местечко», «ложки», «взгорки», «плотинка», «рощица» — с одной стороны (117) и «узкоколейка», «паровозики» — с другой; зловеще окрашены и странноватые глагольные формы со значением неполного действия — «пображивать», «подпыривать» (117), ориентированные на песенный фольклор и его имитации, где они обычно несут иную семантику.
58
Лермонтов М. Ю. Соч.: В 6 т. М., Л.: Издательство Академии наук СССР, 1954. Т. 2. С. 208, 212.
59
Лермонтов М. Ю. Соч.: В 6 т. М., Л.: Издательство Академии наук СССР, 1954. Т. 2. С. 197.
60
Ср. ту же мнимую антитезу у Солженицына; прежде воспоминаний о свежем ветре и звёздном своде в рассказе говорится о «пыльной горячей пустыне» (116).
61
Лермонтов М. Ю. Указ. соч. С. 177.
62
Лермонтовский «говор пьяных мужичков» в Торфопродукте не слышен (как и вообще человеческая речь). Там гремят другие (механические) звуки, а пьяные — вопреки требованиям жизнеподобия — даже не сквернословят и песен не горланят. Но слово им не будет предоставлено и дальше. Тальновский пейзаж (предвестье встречи с Матрёной) описан скорее в тональности «Отрывков из путешествия Онегина», чем чуть более сочного финала «Родины». «Так мы дошли до высыхающей подпруженной речушки с мостиком. (Вновь знакомые по пейзажу Высокого Поля деминутивы. — А. Н.). Милей этого места мне не приглянулось во всей деревне; две-три ивы, избушка перекособоченная, а по пруду плавали утки, и выходили на берег гуси, отряхиваясь» (118); ср.: «Иные нужны мне картины: / Люблю песчаный косогор, / Перед избушкой две рябины, / Калитку, сломанный забор, / На небе серенькие тучи, / Перед гумном соломы кучи — / Да пруд под сенью ив густых, / Раздолье уток молодых…» Откровенно цитируя Пушкина, Солженицын опускает последние восемь строк, не менее памятные, чем первые: «Теперь мила мне балалайка / Да пьяный топот трепака / Перед порогом кабака. / Мой идеал теперь — хозяйка, / Мои желания — покой, / Да щей горшок, да сам большой» (Пушкин А. С. Указ. соч. Т. 5. С. 174). «Недоцитата» (слово М. В. Безродного) возникает здесь по двум причинам. Во-первых, рассказчик не найдет (и не надеется найти) в Тальнове «хозяйку» и дом, в котором будет «хозяином»; силой вещей он так же далек от «самодостаточности» (свободы) бытия, как и Матрёна. (Курсивом у Пушкина дана переведенная в четырехстопный ямб — и тоже «недоцитированная» — строка «Сатиры V. На человеческие злонравия вообще. Сатир и Периерг»: «Щей горшок, да сам большой, хозяин я дома». — Кантемир Антиох. Собр. стихотворений. Л.: Советский писатель, 1956. С. 137.) Во-вторых же, Солженицын слишком хорошо помнит пьяных Торфопродукта, чтобы включить их в поэтический мир. Описанные в рассказе празднества и застолья практически бессловесны (сестры, навестившие Матрёну в Крещенский вечер — сразу после случившейся с ней беды, пропажи котелка с освященной водой, — лишь пляшут да называют Матрёну «лёлька или нянька»; перед перевозом горницы громкая похвальба выпивающих сливается со стуком стаканов и звяканьем бутылки — собственно слова в текст не введены) или оркестрированы пустыми и фальшивыми словами (на поминках звучат ритуализованные молитвы, знаточеская болтовня «золовкина мужа» о церковной службе и его же «патриотическая» демагогия).
63
Подробнее см.: Пропп В. Я. Морфология / Исторические корни волшебной сказки. М.: Лабиринт, 1998. С. 151–163.
64
Ср. точно воспроизводящий сказочную модель, но пародийно окрашенный эпизод «Ночи перед Рождеством». Попавшие в Петербург (аналог «инишного царства») запорожцы и Вакула демонстрируют друг другу свою языковую компетентность: «Что ж, земляк, — сказал, приосанясь, запорожец и желая, что он может говорить и по-русски. — Што балшой город?
Кузнец и себе не хотел осрамиться и показаться новичком; притом же, как имели случай видеть выше сего, он знал и сам грамотный язык. „Губерния знатная! — отвечал он равнодушно, — нечего сказать, домы балшущие, картины висят скрозь важные. Многие домы исписаны буквами из сусального золота до чрезвычайности. Нечего сказать, чудная пропорция“». — Гоголь Н. В. Указ. соч. Т. 1. С. 176.
65
В языковом плане это наиболее выразительное место рассказа. За рамки литературной нормы выходят и фонетика (диссимиляция в слове «желадный», видимо обусловленная гиперкоррекцией: «желадный» вместо «желанный» по аналогии с «медный» при неверном «менный»), и лексика (загадочное без обращения к словарю слово «потай»), и фразеологизм, не поддающийся пословной расшифровке («с душою желадной»), и передающая разговорную интонацию пунктуация (наречие «потай», то есть тайно, обособлено запятыми). В дальнейшем народная речь подается не столь густо, хотя первые реплики Матрёны тоже лингвистически маркированы: «…держит два-дни и три-дни, так что ни встать, ни подать я вам не приспею» (заметим, впрочем, городское обращение на «вы», потом из речи Матрёны ушедшее, — «Прости, Игнатьич»); «Не умемши, не варёмши — как утрафишь» (119, 137, 120).
66
Сказочный лес (и его аналоги) — загробный мир. Герой отправляется туда, дабы, одержав победу (освободив или похитив невесту, добыв волшебный предмет), ликвидировать временное повреждение в мире живых, где с его возвращением (воцарением-свадьбой) восстанавливается гармония, нарушенная в начале сказки вредительством потусторонних сил.
67
Слово о полку Игореве. Л.: Советский писатель, 1985. С. 24. Этот призвук «Слова…» в «Матрёнином дворе», судя по всему, расслышал замечательный поэт и автор проницательных работ об обсуждаемой формуле («Между шеломянем и Соломоном? К вопросу о связи между „Задонщиной“ и „Словом о полку Игореве“») и прозе Солженицына («Великолепное будущее России», «Поэзия и правда у Солженицына» и др.). На игре с многозначностью предлога «за» (с которой связана трансформация оборота из «Слова…» в «Задонщине») строятся «Вариации для бояна», насыщенные реминисценциями раннего Солженицына («Не заутрени звон, а об рельс „подъем“»; «Помнишь ли землю за русским бугром?») и развивающие тему извращения языка (изнасилования России). Соблазнительно предположить в этой связи присутствие автора «Матрёнина двора» в закурсивленной мною строке финала: «О, Русская земля, ты уже за бугром! / Не моим бы надо об этом пером, / но каким уж есть, таким и помянем / ошалелую землю — только добром! — / нашу серую землю за шеломянем». — Лосев Лев. Солженицын и Бродский как соседи. СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2010. С. 7; ср.: Там же. С. 8–13, 283–378.
68
Джексон Р. Л. Указ. соч. С. 550–551; Лекманов О. А. Указ. соч. С. 329–330. Отмечу не зафиксированный коллегами (хотя работающий на их концепцию) фольклорный подтекст еще одной топографической детали; конструкция «…подале, к озёрам» вызывает ассоциации с легендой о граде Китеже, ушедшем под воду и так сохранившем в годину бедствий русскую святость.
69
Кроме синтаксического параллелизма (что чуть ниже отзовется в плаче сестер), очевидна близость «захватчиц» сестрам-вредительницам из сюжетов того типа, что представлены в сказках «Финист — ясный сокол», «Аленький цветочек» или пушкинской о царе Салтане. Сказочные мотивы, однако, последовательно корректируются: сестры не старшие, а младшие; их не две, а три (то есть вместе с Матрёной — четыре; зловеще переосмысливается фольклорная «троичность»); завидуют и вредят они не счастливице, а героине, уже безжалостно обделенной судьбой; грех, за который много лет спустя расплачивается Матрёна, совершен не по сестринскому наущению (рассказывая о замужестве, Матрёна вовсе не упоминает свою родню); злобное торжество в конце концов добившихся своего сестер прямо противоположно счастливым сказочным финалам, часто включающим мотив прощения злодеек (ср. посмертную неприязнь близких к одинокой и за гробом героине).
70
Между прочим, Ефим сватает Матрёну летом 1917 года — то есть в ту самую пору, когда мужики, не дожидаясь декретов, бросились на господские земли. А для того «рук у них (Григорьевых, потерявших мать и полагавших погибшим старшего сына. — А. Н.) не хватало».
71
Тургенев И. С. Указ. соч. Т. 10. С. 152.
72
Впрочем, так ли далеко отстоит от осиротевшей Татьяны Маша, у которой осталась Танька?
73
Даль Владимир. Толковый словарь живого великорусского языка: <В 4 т.>. М.: Русский язык, 1979. Т. 2. С. 150 (факсимильное издание).
74
Блок Александр. Полн. собр. соч. и писем: В 20 т. М.: Наука, 1999. Т. 5. С. 12. В поэме «Двенадцать» призыв этот «карнавально» исполняется убийством Катьки — «толстоморденькой». Эти ассоциации не могли не возникнуть в рассказе, где Россию символизируют разрушаемая изба и женщина, погибшая (убитая) на железной дороге (ср. эту же проекцию России в соответствующем стихотворении Блока).
75
Ильф И., Петров Е. Собр. соч.: В 5 т. М.: Государственное издательство художественной литературы, 1961. Т. 2. С. 156. Отсылка к этому эпизоду «Золотого теленка» открывает 66-ю главу романа «В круге первом»: «Дружбу Нержина с дворником Спиридоном Рубин и Сологдин благодушно называли „хождением в народ“ и поисками той самой великой сермяжной правды, которую ещё до Нержина тщетно искали Гоголь, Некрасов, Герцен, славянофилы, народники, Достоевский, Лев Толстой и, наконец, оболганный Васисуалий Лоханкин» (II, 482).
76
Или двумя романными персонажами?
77
Лермонтов М. Ю. Указ. соч. Т. 6. С. 250.
78
Не только пути к цели, но и (правда, в меньшей мере) обочинного местоположения и интерьера «фатер». Любопытно, что в первом описании избы Матрёны не упоминаются иконы (119), о них речь заходит ниже: «Был святой угол в чистой избе, и иконка Николая Угодника в кухоньке» (129); ср. «На стене ни одного образа — дурной знак!» — Лермонтов М. Ю. Указ. соч. С. 251.
79
Чертыхание Печорина позволяет десятнику отвести его в место «нечистое» — отнюдь не в смысле санитарии (или комфорта), как подумалось странствующему офицеру. И даже не в смысле полицейском: «честные контрабандисты», безусловно, наделены демоническими чертами, новелла строится на двойных мотивировках, ирония повествователя — устойчивая примета как фантастической прозы, так и ее изводов, якобы дающих чудесным событиям разумное истолкование. О двуплановости «Тамани» см.: Лотман Ю. М. Три заметки о Пушкине. 1. «Когда же черт возьмет тебя» // Лотман Ю. М. Пушкин. СПб.: Искусство-СПБ., 1995. С. 341; ср. также: Жолковский А. К. Семиотика «Тамани» // Жолковский А. К. Очные ставки с властителем: Статьи о русской литературе. М.: Российский государственный гуманитарный университет, 2011. С. 139–145.
80
Это мерцающее уподобление будет возникать и ниже:
«— Доброе утро, Матрёна Васильевна.
И всегда одни и те же доброжелательные слова раздавались мне из-за перегородки. Они начинались каким-то низким тёплым мурчанием, как у бабушек в сказках:
— М-м-мм… также и вам.
И немного погодя:
— А завтрак вам приспе-ел» (122).
Трудно не вспомнить здесь эпизоды пробуждения Ивана-царевича в избушке Яги. Сходство Матрёны с «лесной хозяйкой» приметно и в рассказе о ее походах за торфом и по ягоды (124).
81
Тургенев И. С. Указ. соч. Т. 3. С. 327–328.
82
Тургенев И. С. Указ. соч. Т. 3. C. 328.
83
Игра света и цвета в темной комнате, вероятно, пришла из видения пана Данилы («Страшная месть»): «…и опять с чудным звоном осветилась вся светлица розовым светом ‹…› тонкий розовый свет становился ярче, и что-то белое, как будто облако, веяло посреди хаты; и чудится пану Даниле, что облако то не облако, что то стоит женщина; только из чего она: из воздуха, что ли, выткана? Отчего же она стоит и земли не трогает, и не опершись ни на что, и сквозь нее просвечивает розовый свет и мелькают на стене знаки». Это колдун мучает душу пани Катерины (ср. власть Фаддея над Матрёной). Преображение дома напоминает другое видение — Левка в «Майской ночи»: «С изумлением глядел он в неподвижные воды пруда: старинный господский дом, опрокинувшись вниз, был виден в нем чист и в каком-то ясном величии. Вместо мрачных ставней глядели веселые стеклянные окна и двери. Сквозь чистые стекла мелькала позолота ‹…› „Вот как мало надо полагаться на людские толки, — подумал он про себя. — Дом новехонький; краски живы, как будто сегодня он выкрашен“». По-другому (без фантастической огласовки) этот мотив проведен в главе VI «Мертвых душ», рассказе о былом (веселом, многолюдном, деятельном) бытии оскудевшего и захламленного дома Плюшкина. — Гоголь Н. В. Указ. соч. Т. 1. С. 196, 130; Т. 7. Кн. 1. С. 112. Гоголевские реминисценции появляются в двух тревожных и загадочных (коли не сказать — мистических) эпизодах «Матрёнина двора». «Пальто из железнодорожной шинели», построенное портным-горбуном, получилось таким славным, «какого за шесть десятков лет Матрёна не нашивала» (128). Верно указав на отсылку к «Шинели», Р. Л. Джексон не обратил внимания на то, что эта удача Матрёны (как и прочие — с трудом выхлопотанная пенсия, деньги, которые стала она получать от постояльца и школы, купленные на них новые телогрейка и валенки, возможность сделать похоронную заначку) предвещает ее страшный конец. Точь-в-точь как сбывшаяся мечта Акакия Акакиевича. Или неожиданный уход в лес кошечки («Старосветские помещики»), верно понятый ее хозяйкой как знак скорой смерти, — ср. в «Матрёнином дворе» исчезновение колченогой кошки, случившееся между демонтажем горницы и гибелью Матрёны (136). В этом контексте похищение котелка со святой водой видится «гоголизированно» — бесовской проказой.
84
«В то лето… ходили мы с ним в рощу сидеть, — прошептала она. — Тут роща была, где теперь конный двор, вырубили её…» (133); ср.: Она ж к нему: «Что будет / С кустами медвежины, / Где каждым утром будит / Нас рокот соловьиный?» // «Кусты те вырвать надо / Со всеми их корнями, / Индеек здесь, о лада, / Хотят кормить червями». — Толстой А. К. Полн. собр. стихотворений и поэм. СПб.: Гуманитарное агентство «Академический проект», 2004. С. 221. Напомню о соловьином пении в «Живых мощах».
85
Тургенев И. С. Указ. соч. Т. 3. С. 326; ср.: Тютчев Ф. И. Полн. собр. стихотворений. Л.: Советский писатель, 1987. С. 191. Тютчевскую межстрочную запятую Тургенев заменил на тире.
86
Ср. восторженную оценку первой части повести, впервые прочитанной будущим автором «Матрёнина двора» в тюрьме (1945 или 1946): Солженицын Александр. Из «Литературной коллекции». Николай Лесков // Солженицынские тетради. <Вып.> 1. С. 17; ср. также: Мелентьева И. Е. Солженицын читает Лескова // Там же. С. 118–134. Своей приязнью к повести Лескова Солженицын наделил Веру Воротынцеву, для которой «живыми спутниками» остаются «пронзительно обречённые Варвара и Настя из „Жития одной бабы“ — „беда у нас смирному да сиротливому“» (XIV, 128; «Март Семнадцатого», гл. 556). Трудно, однако, предположить, что Вера (все же библиограф, а не историк литературы) могла отыскать всеми забытую раннюю повесть Лескова, опубликованную в 1863 году («Библиотека для чтения», № 7) и впервые переизданную Б. М. Эйхенбаумом: Лесков Н. С. Избр. соч. М.; Л.: Academia, 1931. Видимо, Солженицын читал в тюрьме этот однотомник, в котором вслед за «Житием одной бабы» помещен столь дорогой героине «Марта…» рассказ Лескова «Тупейный художник».
87
Эта параллель подробно описана и внятно истолкована Р. Л. Джексоном.
Джексон Роберт Луис. «Матрёнин двор»: Сотворение русской иконы // Солженицын: Мыслитель, историк, художник: Западная критика. 1974–2008. М.: Русский путь, 2010. С. 551, 552, 553. Последнее наблюдение серьезно колеблет главную мысль статьи, согласно которой Солженицын ищет идеал в дореволюционном прошлом. Меж тем для Солженицына злосчастья России (олицетворением которой можно счесть Матрёну) начались задолго до революции, что и обусловливает его обращение к классике, запечатлевшей не только красоту русского человека, но и его трагедию.
88
Так метонимически замещаются сказки, которые в поэтическом источнике были превращены в песни.
89
М. В. Захарова погибла 21 февраля, что отделено от 8 февраля (27 января по старому стилю) тринадцатью днями. Солженицын всегда был склонен примечать символичность дат и их совпадений. Ср. приведенный в «очерках литературной жизни» его разговор с Твардовским 10 февраля 1970 года: «А. Т.! Тут какая-то мистика в датах. Вчера был день моего ареста, даже 25-летие. — (Да покрупней: 9 февраля нового стиля умер Достоевский.) — Сегодня — день смерти Пушкина, и тоже столетие с третью. — (А завтра, 11-го, разорвут Грибоедова.) — И в эти же дни вас („Новый мир“. — А. Н.) разгромили…» (XXVIII, 276).
90
Так же двояко (по законам романтической фантастики) мотивировано бегство колченогой кошки.
91
Ср. сходное состояние в часы, предшествующие рассказу Матрёны о ее прошлом: «Я и о Матрёне-то самой забыл, что она здесь, не слышал её…» (132).
92
Пушкин А. С. Указ. соч. Т. 3. С. 186. Для первого (обобщенного) «мышиного» эпизода, вероятно, значимо и стихотворение единственного относительно дозволенного в сталинскую эпоху русского модерниста: «В нашем доме мыши поселились / И живут, и живут! / К нам привыкли, ходят, расхрабрились, / Видны там и тут. ‹…› Свалят банку, след оставят в тесте, / Их проказ не счесть… / Но так мило знать, что с нами вместе / Жизнь другая есть» («Мыши»). — Брюсов Валерий. Стихотворения и поэмы. Л.: Советский писатель, 1961. С. 147, 148. Ср. о шорохе соседей и двойников мышей — тараканов: «…в нём не было ничего злого, в нём не было лжи. Шуршание их — была их жизнь» (121). О знакомстве Солженицына с поэзией Брюсова свидетельствует его вариация «Каменщика» в одноименном лагерном стихотворении (позднее отозвавшаяся в «Одном дне Ивана Денисовича»: «Вот — я каменщик. Как у поэта сложено, / Я из камня дикого кладу тюрьму. / Но вокруг — не город: Зона. Огорожено. / В чистом небе коршун реет настороженно. / Ветер по степи… И нет в степи прохожего, / Чтоб спросить меня: кладу — кому?» (XVIII, 229); ср.: «— Каменщик, каменщик в фартуке белом, / Что ты там строишь? кому? / — Эй, не мешай нам, мы заняты делом, / Строим мы, строим тюрьму» (Брюсов Валерий. Указ. соч. С. 212).
93
Это сцепление мотивов характеризует большую традицию «ночной» (надгробной) поэзии, сложно претворенную Пушкиным в «Стихах, сочиненных ночью…». Закономерно, что в описание поминок включена инвертированная цитата из едва ли не самого известного русского стихотворения о неожиданной смерти и общей нашей обреченности: «Столы, составленные в один длинный, захватывали и то место, где утром стоял гроб» (146); ср.: «Где стол был яств, там гроб стоит». В той же оде «На смерть К. Мещерского» поэт задает отчаянные и безответные вопросы: «Здесь персть твоя, а духа нет. / Где ж он? — Он там; — Где там? — Не знаем. / Мы только плачем и взываем: / О горе нам, рожденным в свет!» О том же (и даже со сходными синтаксическими конструкциями, с той же напряженной антитетичностью) «строго» говорит, унимая «вторую» Матрёну, старуха, «намного старше здесь всех старух и как будто даже Матрёне чужая вовсе»: «— Две загадки в мире есть: как родился — не помню, как умру — не знаю» (144). Начинается же ода с того звука, что раздавался в ночи, когда Игнатьич «писал своё»: «Глагол времен! металла звон! / Твой страшный глас меня смущает, / Зовет меня, зовет твой стон, / Зовет, — и к гробу приближает». — Державин Г. Р. Соч. СПб.: Гуманитарное агентство «Академический проект», 2002. С. 124, 125.
94
Все пушкинские реминисценции прикровенны, фамилия поэта не произносится (ср. называние Тургенева; бросающаяся в глаза «литературная» цитата из Некрасова примыкает к первой картине ночного — поэтического — бытия Игнатьича) — как и имя рассказчика, называемого только по отчеству. Невозможно предположить, чтобы Солженицын не задумывался о том, что он тезка Пушкина.
95
В этой связи перестает казаться случайной реминисценция «…Вновь я посетил…» в раздумьях рассказчика о Высоком Поле (Пушкин А. С. Указ. соч. Т. 3. С. 314). В стихотворении Пушкина речь идет о единстве природного и человеческого миров, о победе над временем (и конечностью человеческого бытия), о глубинной связи памяти и бессмертия. Первым свидетельством об одолении смерти становятся строки об умершей Арине: «Вот опальный домик, / Где жил я с бедной нянею моей. / Уже старушки нет — уж за стеною / Не слышу я шагов ее тяжелых, / Ни кропотливого ее дозора». Пушкинское «не слышу» опровергается следующими далее строками, «весомая» лексика которых заставляет нас ощутить присутствие умершей в длящейся без нее жизни. Выше говорилось, что «трех Матрён» Некрасов поминает вслед за Пушкиным. Стоит добавить, что той же народной прибауткой начинается откровенно игровой (сооруженный в паре с Вяземским) гостинец старшему другу (всеобщему, а не только адресантов, пестуну, наставнику, учителю), поэту, чьи самые проникновенные строки посвящены светлой силе воспоминания, побеждающего смерть, — Жуковскому. Шуточный характер стихов, где причудливо перемешаны имена разномастных персонажей (живых и ушедших, друзей и недругов, великих мира сего и безвестных) не отменяет его внутреннего серьезного смысла: «Надо помянуть, непременно помянуть надо: / Трех Матрён / Да Луку с Петром; / Помянуть надо и тех, которые, например: / Бывшего поэта Панцербитера, / Нашего прихода честного пресвитера, / Купца Риттера, / Резанова, славного русского кондитера, / Всех православных христиан города Санкт-Питера, / Да покойника Юпитера» (эти строки записаны рукой Вяземского). — Пушкин А. С. Указ. соч. Т. 3. С. 313, 366.
96
Широта литературных горизонтов романа «В круге первом» обусловлена, во-первых, его жанровой — металитературной — природой (роман о романе), во-вторых, обилием героев-интеллектуалов, а в-третьих, объемом. Эти особенности романной прозы Солженицыны будут явлены и романной составляющей «Красного Колеса».
97
Тургенев И. С. Указ. соч. Т. 3. С. 219.
98
Тургенев И. С. Указ. соч. Т. 3. С. 221–222.
99
Тургенев И. С. Указ. соч. Т. 3. С. 224, 225.
100
«Певцы» — рассказ о русских людях и русских бедах, но строится он с опорой на европейскую традицию. Противопоставляя рядчика и Якова, Тургенев отсылает к не одно десятилетие кипевшему спору об итальянском и немецком вокальном искусстве, шире — об итальянской и немецкой музыке. Первая воспринималась как образец виртуозности и чистой красоты, вторая мыслилась серьезной, духовной, строгой. (Потому «немец пришел бы… в негодование» от пения рядчика.) Разумеется, Тургенев мог набрести на кабацкий турнир во Мценском (или ином) уезде, но и новелла Гофмана «Состязание певцов» (входит в роман «Серапионовы братья») была ему знакома. И конечно писатель понимал, что и средневековая фантастическая история Гофмана, и общеевропейский спор о немецкой и итальянской музыке хорошо известны большинству его просвещенных современников — потенциальным читателям «Записок охотников».
101
Добрыня Никитич и Алеша Попович. М.: Наука, 1974. С. 230.
102
Добрыня Никитич и Алеша Попович. М.: Наука, 1974. С. 271.
103
Его увела из мира живых вторая война с германцами, как когда-то Фаддея — первая. Тогдашняя «временная/мнимая смерть» старшего брата отзывается в рассказе пропажей без вести брата младшего. О сомнительном (погиб или сумел устроиться в чужом — мертвом — мире?) положении младшего брата читатель узнает раньше, чем о том, что прежде та же участь выпала брату старшему.
104
Добрыня Никитич и Алеша Попович. М.: Наука, 1974. С. 230.
105
Лесков Н. С. Полн. собр. соч. <В 36 т>. СПб.: Издание А. Ф. Маркса, 1902. Т. 3. С. 73–75.
106
Легко протянуть от этого эпизода смысловые нити к солженицынской публицистике, особенно послероссийской, к его настойчивым упрекам Западу — упрекам в бездуховности, внутренней расслабленности, все той же сытости.
107
Здесь не место переходить в область конкретной политики и ловить писателя на фактах (дескать, Сталин все-таки Третьей мировой не начал). Заметим, однако, что Солженицын описывает сознание героев конца 40-х годов, у которых ни надежд наших, ни нашего исторического опыта не было, бояться же Сталина с бомбой они имели все основания.
108
Солженицын Александр. Публицистика. Т. 1. С. 16. В «Нобелевской лекции» рассуждение о нациях возникает в контексте раздумий писателя о языке и литературе, сберегающих национальную душу. В этой связи нельзя не напомнить о вполне вероятном источнике Солженицына — гоголевском рассуждении о русском слове в конце главы V «Мертвых душ»; ср. в особенности: «И всякой народ, носящий в себе залог сил, полный творящих способностей души, своей яркой особенности и других даров Бога, своеобразно отличается каждый своим собственным словом, которым, выражая какой ни есть предмет, отражает в выраженьи его часть собственного своего характера». — Гоголь Н. В. Полн. собр. соч.: В 23 т. М.: Наука, 2012. Т. 7. Кн. 1. С. 103.
109
Другая ироническая отсылка к Дюма — прозвище бывшего чекиста Мамурина — Железная маска. Романтические ужасы могут вызывать лишь смех у обитателей гулаговского лимба.
110
Долгие годы спустя, в совсем иной социально-политической ситуации середины 90-х, Солженицын будет столь же остро переживать это состояние. О том его крохотка «Позор»:
«Какое это мучительное чувство: испытывать позор за свою Родину.
В чьих Она равнодушных или скользких руках, безмысло или корыстно правящих Её жизнь. В каких заносчивых, или коварных, или стёртых лицах видится Она миру. Какое тленное пойло вливают Ей вместо здравой духовной пищи. До какого разора и нищеты доведена народная жизнь, не в силах взняться.
Унизительное чувство, неотстанное. И — не беглое, оно не переменяется легко, как чувства личные, повседневные, от мелькучих обстоятельств. Нет, это — постоянный, неотступный гнёт, с ним просыпаешься, с ним проволакиваешь каждый час дня, с ним роняешься в ночь. И даже через смерть, освобождающую нас от огорчений личных, — от этого Позора не уйти: он так и останется висеть над головами живых, а ты же — их частиц» (I, 563).
111
Дабы не было и малейших сомнений, Солженицын вводит эпизод с Герасимовичем, которому генерал-майор Осколупов предлагает заняться сходной работенкой, только «не по уху, а по глазу». Именно здесь (в отказе Герасимовича) прозвучит словосочетание «ловец человеков».
112
Здесь легко оспорить: светоносным даже по имени был и Князь Тьмы (Люцифер). Аналогия не то чтобы произвольна; важен аристократизм героя, слитый с самолюбованием («Вот идет граф Сологдин»), а равно его сознательная, с первого появления очевидная тяга к «амбивалентности» и внутренней закрытости. Сам Сологдин в этой связи поминает героев Достоевского, первым из них — Ставрогина. Сопоставление этих героев тоже может дать яркие результаты.
113
Подобного рода игра с фамилиями в романе не единична, кроме наглядного примера с майорами Шикиным и Мышиным (Шишкин-Мышкин), отметим почти точное анаграммирование фамилии Наделашин в прозвище персонажа — младшина.
114
И снова нельзя не вспомнить володинские круги: как к человечеству не придешь мимо отечества, так и к отечеству не придешь, забывши о человечестве.
115
«Декабристская» линия в романе — реликт ранее написанной пьесы «Пленники» (первоначально: «Декабристы без декабря»); см.: Нива Жорж. Солженицын. М.: Художественная литература, 1991. С. 55–56.
116
Как шарашка — «круг первый» — есть соцветие свободных и ищущих умов (хотя Нержин знает недостатки и грехи своих соузников), так и Россия — «круг первый» — есть тайное соцветие лучших умов человечества. Именно здесь, по Солженицыну, должна выковаться будущая великая культура.
117
Нельзя упустить очередной солженицынский гротеск: Галахов допрашивает свояка — Володина о том, каков советский дипломат. Скоро Володина будет допрашивать реальный следователь. И на сходную тему. Подробнее об этом см. в главе «Жизнь и поэзия в романе „В круге первом“».
118
Интересные соображения об этом тексте см.: Лекманов Олег. О преамбуле к роману А. И. Солженицына «В круге первом» // Замечательное шестидесятилетие: <В 2 т.>. М.: 2017. Т. 1. С. 211–216.
119
Даже если предположить, что в ранних (потаенных) редакциях личный опыт автора был лишь материалом, то уже в предложенном «Новому миру» тексте (несмотря на существенную деформацию смысловой конструкции) автобиографизм оказывался семантически нагруженным: читатели «Одного дня Ивана Денисовича», безусловно, понимали, что автор рассказа прошел сталинские лагеря, соответственно избравший писательскую стезю герой-заключенный (Нержин) просто не мог не ассоциироваться с Солженицыным. Как было показано в главе II «Русская словесность на Матрёнином дворе», автобиографические мотивы отчетливо звучат уже в третьем опубликованном сочинении Солженицына.
120
«Шарашечная» часть повествования жестко закольцована: она открывается прибытием в Марфино новой партии зэков (буквально первые фразы гл. 3 («Шарашка») — возгласы: «Новички! Новичков привезли!» — 20), а завершается описанием замаскированного воронка, в котором увозят Нержина и других списанных заключенных (716–720). Сама по себе смена контингента — типовая примета «круга первого».
121
Третий шанс выпадает Нержину буквально перед этапом. Теперь соблазнителем выступает Сологдин: «Ещё не поздно. Дай согласие остаться расчётчиком — и я, может быть, успею тебя оставить. Тут в одну группу ‹…› Но придётся вкалывать, предупреждаю честно» (705). Эпизод этот (почти точно дублирующий предложение Яконова) нужен прежде всего для смысловой симметрии: непримиримые идеологические противники — Рубин и Сологдин — идут на сотрудничество с режимом (хоть и по разным причинам) и, сохраняя приязнь к Нержину (оба пытаются уберечь друга от низвержения в нижние круги лагерного ада), в равной мере не понимают и не принимают его выбора.
122
Разделяет их глава «Двойник» (в названии ощутимы традиционно литературные семантические обертоны), повествующая о невероятной (достойной приключенческого романа) авантюре Руськи Доронина.
123
«Собственно, это не было ново для нашей планеты, а только для революционной страны» (370).
124
Ср.: «…он бы взял его („кусок пирога“. — А. Н.) иначе, если б талантливых людей у нас не загрызали на полпути ‹…› несмотря на то что его невеста живёт в праздности, она не очень испорчена» (372).
125
В двухтомных изданиях романа «В круге первом» (начиная с «вермонтского» Собрания сочинений, 1978) первый том завершается 52-й главой, то есть тостом Щагова. Это середина повествования (пусть не строго формальная — в романе 96 глав), отчетливо маркированная во всех крупных сочинениях Солженицына.
126
Едва ли случайно Солженицын легким намеком вводит позднее в текст этот пушкинский шедевр. Вечер понедельника Володин собирался провести в театре — на «Акулине», оперетте Т. Н. Хренникова по мотивам последней повести Белкина (о чем, впрочем, герой, кажется, не знает, а читатель специально не информируется) (607). Вместо спектакля о веселом и счастливо завершившемся розыгрыше Володина ждет арест, проведенный с издевательскими чекистскими мистификациями.
127
Либо — вопреки намерениям автора и самой своей стати — воспринимается как выдумка или навязанный авторитет, не имеющие отношения к проблемам сегодняшнего читателя. Ср. отношение Клары Макарыгиной к школьному и университетскому курсам «литературы» (291).
128
Ср. колебания меж гамлетовским и донкихотским началами или просто рефлексию как важнйшую черту большинства главных героев Тургенева, наследием которого занимается Муза. Герои западных (да и некоторых русских) романов, что гонятся за славой, деньгами, карьерой, вовсе не рождаются «прагматиками», но приходят к этой позиции после долгих колебаний, описание (осмысление, истолкование) которых и составляет главный предмет авторского внимания.
129
Здесь необходимо вспомнить о выборе Володина. Формулы, извращенные советской демагогической практикой, обретают для Володина истинный смысл, а потому роковому решению сопутствуют страх, успокаивающий самообман, упреки себе за уже совершенный поступок, неведомые персонажам Галахова.
130
До выхода персонажа на сцену имя Галахова возникает трижды. Кроме рассмотренных эпизодов о читателях «Избранного», известный писатель упоминается в главе «Женщина мыла лестницу» — сообщается о его романе и женитьбе на старшей сестре Клары Макарыгиной. Абзацем выше говорится о браке другой сестры и Володина (289–290). Такое композиционное решение мотивировано не столько необходимостью указать на свойство Галахова, Макарыгиных и Володина и объяснить его присутствие на воскресном вечере в доме прокурора (это можно было сделать и в главе, посвященной празднеству), сколько движением все той же темы «жизнь и поэзия». В отличие от сестры (будущей жены Галахова), упоенно перечитавшей «всю мировую литературу от Гомера до Фаррера» (290), Клара равнодушна к словесности, которая не говорит ей «что-то очень главное о жизни» (291). Своим кошмаром («поломойка и сегодня стоит на их лестнице») она делится не с писателем Галаховым, который вроде бы должен знать про жизнь самое важное, а с младшим зятем, по всем статьям ей чужим, — Володиным (295–296). Клара интуитивно предпочитает мнимого писателя скрытому будущему герою того романа, что воссоздает жизнь и является ее неотменимой частью.
131
Ср.: «Главная-то работа (о которой знает и не хочет знать Галахов. — А. Н.) была вторая, тайная: встречи с зашифрованными личностями, сбор сведений, передача инструкций и выплата денег» (434).
132
Ср. выше размышления Хороброва.
133
Ср. вопросы Володина: «…кто ты? Какими идеями ты обогатил наш измученный век?.. Сверх, конечно, тех неоспоримых, которые тебе даёт социалистический реализм» (453).
134
Несколько иначе роль Галахова (с указанием на его легко узнаваемого прототипа, К. М. Симонова) характеризуется в яркой статье: Лосев Лев. Поэзия и правда у Солженицына // Лосев Лев. Солженицын и Бродский как соседи. СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2010. С. 310–312. Там же (С. 313–316) справедливо указано на пьесу Симонова «Чужая тень» (1949) как «источник» облегченного сюжета в «лекарственной» версии романа (так называемый «Круг-87»), предназначавшейся для публикации в «Новом мире», широко ходившей в самиздате, напечатанной на Западе и до 1978 года замещавшей истинный текст.
135
Потому день рождения Нержина и приходится на Рождество, подразумевающее Воскресение. Отметим, что Галахов выводится на сцену именно 25 декабря (Рождество, день рождения Нержина, воскресенье).
136
Этот мотив сложно переплетен со многими другими, предсказывающими будущую книгу Нержина о русской революции и проясняющими ее творческую историю. Очевидно, что во внероманной реальности аналогом книги Нержина выступает заветный труд прототипа главного героя романа «В круге первом»; подробнее см. в главе V этой книги «Колесо в Круге».
137
Сталину бомба еще как нужна. Она и должна сделать Пахана «императором Земли»:
«Начать можно будет, как атомных бомб наделаем…
‹…›
Вообще, путь к мировому коммунизму проще всего через Третью Мировую войну: сперва объединить весь мир, а уже там учреждать коммунизм. Иначе — слишком много сложностей» (160).
138
Цитируемая глава называется «Князь Курбский». Возникающая в ней историческая аналогия: «Кто князь Курбский? — изменник. Кто Грозный — родной отец» (609), во-первых, отсылает к активно насаждаемой исторической мифологии 1940-х гг. (фильм С. М. Эйзенштейна, драматическая дилогия А. Н. Толстого, «Ливонская война» И. Л. Сельвинского и др.), демонизирующей «изменника» Курбского, во-вторых, актуализирует тему вынужденной эмиграции (бегства), заставляющей еще раз вспомнить о Герцене, в-третьих, перекликается с темой «мнимых изменников», развернутой в главе «Князь Игорь», что вновь сближает Володина с заключенными шарашки (в том числе с охотящимся за ним Рубиным, инициатором пародийного суда над героем «Слова о полку…»).
139
Есенинская тема прихотливо связывает Руську, Володина и Нержина. Дабы поддержать репутацию осведомителя, Руська сообщает майору Шикину о принадлежащей Нержину книге Есенина. Не желая возвращать сборник, чекист глумливо спрашивает Нержина, на что «намекается» строками:
И слышит в ответ: «Очень просто ‹…› Не пытаться примирять белую розу истины с чёрной жабой злодейства!» (700). Ответ Нержина отсылает и к жизненной трагедии Есенина, и к искупительному подвигу Володина, который многим видится преступлением, и к невольному промаху Руськи, не подумавшему, каким злом может отозваться его затеянная с благородной целью двойническая игра.
140
Легенды о святом Граале, «Фауст» (о финале которого вдохновенно и недоуменно размышляет Рубин), постоянно цитируемый Потаповым «Евгений Онегин», декабристские сюжеты (в их литературном преломлении, в том числе эпилог «Войны и мира»), «Ночь перед Рождеством» Гоголя и рождественские повести Диккенса (ассоциации с которыми вызваны временем действия), шедевры Дюма («Граф Монте-Кристо», читаемый Абрамсоном и Хоробровым, мушкетерская трилогия, введенная мотивом «Железной маски»), восхищающие Сологдина — по весьма специфическим причинам — романы Достоевского, отвергаемая Нержиным и любимая Рубиным проза Хемингуэя, «Молодая гвардия» Фадеева (обсуждение этого бестселлера занимало важное место в ранних редакциях и ушло в подтекст), «Далеко от Москвы» Ажаева и ряд иных сочинений так же плотно и значимо включены в структуру романа, как «Слово о полку Игореве», переписка Грозного с Курбским (и ее трактовки), программное стихотворение Жуковского, «Барышня-крестьянка», речь Тургенева «Гамлет и Дон Кихот», западноевропейский («бальзаковский») «роман карьеры» и поэзия Есенина, о которых — по необходимости бегло — говорилось выше.
141
Ср. сходную неопределенность в рассказе «Матрёнин двор»: «По ночам, когда Матрёна уже спала, а я занимался за столом ‹…› Лишь поздно вечером, когда я думать забыл о старике и писал своё в тишине избы…» (I, 121, 132); подробнее в главе II этой книги «Русская словесность на Матрёнином дворе».
142
Подробнее в главе «Жизнь и поэзия в романе „В круге первом“».
143
Так судьба булгаковского мастера определяется романом о Понтии Пилате, а Годунов-Чердынцев вполне становится собой не после дебютного сборника стихов или даже биографии Чернышевского, «заместившей» ненаписанную историю отца, но в процессе работы над книгой, которую можно отождествить с самим «Даром». Подобные — обнаруживающиеся в финалах — отождествления истории сочинения (или якобы несочинения) какой-то книги, посвященной жизни героя-автора, с явленным читателю текстом определяют смысловую структуру таких значительных и разных романов конца XX века, как «Ожог» Василия Аксенова, «Время и место» Юрия Трифонова, «Андеграунд, или Герой нашего времени» Владимира Маканина, «Закрытая книга» Андрея Дмитриева. Усматривать здесь исключительно влияние Набокова, на мой взгляд, значит существенно упрощать общее движение новейшей русской литературы. Так в одной из «вставных новелл» романа Дмитриева (измысленных, как и все остальные, героем-рассказчиком, который и претворяет свою и чужие судьбы в «Закрытую книгу») умирающий филолог Плетенев (наделенный распознаваемым сходством с Тыняновым) размышляет о хозяевах страны, что «возомнили себя бессмертными». «Но тут они оплошали. Смерть не род наказания и болезнь не род наказания, скорее род назидания. Они поймут это вполне, когда окажутся в этих больничных садах и в душных, дурно пахнущих, натемно занавешенных палатах… „А ведь сюжет ‹…› И не случайный ведь, неизбежный сюжет. Кто-нибудь непременно сочинит роман или пьесу на этот сюжет… лучше роман. Пусть не сейчас сочинит, пусть потом… а жаль, что не прочту“». Маловероятно, что реальный Тынянов в предсмертном бреду разглядел будущего «неведомого романиста ‹…› со шкиперской бородкой» и «веселым и подвижным лицом» и дал ему несколько советов для будущей книги о «болезни как назидании» и неторном пути к выздоровлению. Да и умирал Тынянов от рассеянного склероза, а не в «раковом корпусе», который прямо (для не слишком понятливого читателя) упомянут в этом эпизоде; см.: Дмитриев Андрей. Закрытая книга. М., 2000. С. 19–20. Но органичная связь тыняновского романа о бессмертии Пушкина (и всякого поэта) и спасительной силе поэтического слова с прозой Солженицына (отнюдь не одним только «Раковым корпусом») увидена и запечатлена совершенно точно.
144
В предназначенной для подсоветского издания «лекарственной» редакции романа Солженицын был вынужден не только изменить сюжет, но и скрыть страсть Нержина к познанию истории (и существенно ослабить тему прошлого в володинской линии). В результате мотивная система подцензурной версии романа оказалась менее плотной, чем в окончательном тексте, в частности связь нержинской и володинской линии оказалась почти не прописанной, а роль Нержина как «автора» романа (художника, разгадавшего побуждения Володина и воскресившего в слове этого сгинувшего в бездне человека) отменилась вовсе. Я не касаюсь здесь ни вопроса о том, какие смысловые приращения (наряду с очевидными утратами) возникли в редакции «лекарственной», ни тех изменений в тексте, что появились в 1968–1969, а затем и в 1978 гг.: «…восстанавливая, я кое-что и усовершил: ведь тогда мне было сорок, а теперь пятьдесят» (7).
145
Уместно здесь напомнить о той огромной роли, что отведена в «Красном Колесе» несобственно прямой речи как исторических, так и вымышленных персонажей.
146
Так уже при первом появлении Сологдина обосновываются его дальнейшие метаморфозы. В ночном споре с Рубиным Сологдин, отодвинув «забрало», клеймит Александра Невского, не допустившего «рыцарей в Азию, католичество — в Россию», называет «святую Русь» (его прежнее определение) — «косопузой страной» и «страной рабов» и провоцирует решение своего противника (тоже приверженца «сильной» и «своей» мысли) «завтра с раннего утра припасть, принюхаться к следу этого анонима-негодяя, спасти атомную бомбу для Революции». Мотивированный тем же яростным спором (и прямо противоположный по политическому смыслу) выбор Сологдина — «не давать им шифратора! не давать» — окажется временным: рискованно сыграв с Яконовым, инженер соглашается за пять недель (и даже за месяц) сделать «полный эскизный проект с расчётами в объёме технического» (506, 508, 509, 571). Володина, вероятно, схватили бы и без помощи умников из шарашки, но споспешествует его выявлению (аресту, низвержению в ад) взаимная ненависть Сологдина и Рубина, подчиненных своим идеям, не желающих слышать друг друга (признавать в противнике человека со своей мыслью) и видеть мир в его многомерной сложности, превосходящей любые отвлеченные «правды». Такой мир открывается художнику, и потому Нержину дано не поймать предателя, не подстегнуть рвение в этом (или ином столь же постыдном) деле своего друга, но разгадать тайну человека, звонившего в американское посольство.
147
Солженицын отлично знал противоположное искушение. В рассказе о юношеском чтении Сани Лаженицына («Август Четырнадцатого») трудно не ощутить автобиографическую ноту: «Он запутался в изобилии истин, он измучился от убедительности каждой из них. Пока было мало книг в руках, Исаакий твёрдо и хорошо себя чувствовал, с седьмого класса он считал себя толстовцем. Но вот дали ему Лаврова с Михайловским — как будто правильно, очень верно! Плеханова дали — опять-таки верно, да гладко, да кругло как! Кропоткин — тоже к сердцу, верно. А распахнул „Вехи“ — и задрожал: всё напротив читанному прежде, но — верно! пронзительно верно!» (VII, 27).
148
Между прочим, не только Нержин поверил в Сологдина (сразу увидел в нем лучшее, осложненное, но не отмененное дальнейшим общением персонажей), но и Сологдин — в Нержина. Хотя был тогда «поражён ‹…› опрометчивостью» нового знакомца, а в пору основного действия досадует: «Очень дурно, если меня легко прочесть. В лагере надо казаться заурядным» (181). Принципы принципами, но «опрометчивое» признание было взаимным, выросшая из него дружба — истинной. И Сологдин, и Рубин (пожалуй, в еще большей мере) не исчерпываются своими «сильными мыслями» и продолжающими их поступками (сюжетными функциями).
149
Кажется, это относится и к поэтике в целом: резко педалированная полифония (подробно проговоренные «правды» многочисленных героев-идеологов), постоянная мена стилевых регистров, неожиданные пересечения судеб персонажей, взаимосвязь частного и исторического планов, не говоря уж о теме рождения писателя (и его книги). Что же касается неизменной приверженности Солженицына к «временной концентрации» повествования, то должно подчеркнуть: прием этот в разных текстах служит решению разных художественных задач. В «Одном дне Ивана Денисовича» важно парадоксальное соединение типичности («Таких дней в его сроке от звонка до звонка было три тысячи шестьсот пятьдесят три. Из-за високосных годов — три дня лишних набавлялось…») и неповторимости каждого из заурядных дней, внутренней насыщенности якобы бессобытийного времени. Ясно, что не каждодневно Шухову выдавалось столько «удач» (114) и тем более, что эти очень конкретные «удачи» не могли точно повторяться. Другие его дни были насыщены иными «малыми» событиями, но пустых вовсе не было, ибо жизнь не терпит пустоты. В «Матрёнином дворе», где описана вся история отношений героини и рассказчика (немногим больше полугода) существенны смены повествовательного темпоритма, переходы от цикличной мнимой бессобытийности (еще более, чем в «Одном дне…», ориентированной на фольклор) к убыстрению хода времени в сюжетообразующих фрагментах, причем эти перепады присущи как финальному этапу истории Матрёны, свидетелем которого был Игнатьич, так и всей ее жизни. Ср. «беглые» рассказы Матрёны о ключевых событиях ее судьбы (любовь Фаддея, его уход на войну, замужество, возвращение Фаддея, смерти детей Матрёны, обретение Киры, уход на войну Ефима…) и фольклоризированные характеристики бессобытийного времени: «Да. Да… Понимаю… Облетали листья, падал снег — и потом таял. Снова пахали, снова сеяли, снова жали. И опять облетали листья, и опять падал снег»; «И шли года, как плыла вода…» (I, 133, 135). «Отмеренные сроки» «Ракового корпуса» не только сравнительно с другими вещами растянуты, разделены (значимая временная лакуна между первой и второй частями), но и усложнены параллельным (но лишь с определенного момента!) движением историй двух персонажей — Русанова и Костоглотова: здесь Солженицыну важна в первую очередь процессуальность, фиксация изменений, происходящих (или не происходящих) с героями и стоящей за ними страной (то ли выздоравливающей, то ли довольствующейся паллиативами и самообманом). Временной минимализм рассказов о единичном событии, «случае» мотивирован их сюжетной спецификой. Первое слово в заголовке «Случай на станции Кочетовка», безусловно, семантически нагружено, именно о «случаях» повествуется и в других опытах ранней «короткой» прозы Солженицына (терминологическая традиция подсказывает здесь слово «новелла», писатель, однако, понимал его иначе). Время, в которое укладывается «взрывной» сюжет, здесь сжимается в двое суток («Для пользы дела»), несколько часов («Случай на станции Кочетовка»), примерно полчаса («Правая кисть») или даже несколько минут («Как жаль»).
150
Восьмилетия, если вести отсчет от победной «тюремной томительной весны», что «стала расплатной весной ‹…› поколения» Солженицына (IV, 216). Семилетия — если считать от лета-осени 1946 года, когда с военными и интеллигентскими вольностями было бесповоротно покончено.
151
Слуцкий Борис. Собр. соч.: В 3 т. М.: Художественная литература, 1991. Т. 2. С. 322.
152
Открывающая второй том Второго Узла (то есть композиционно и даже полиграфически маркированная) 38-я глава начинается словами: «Двадцать пятого октября после полудня…» (X, 9) — до захвата власти большевиками остался ровно год.
153
Параллель «несостоявшиеся заговоры 1916 года — план Герасимовича» будет рассмотрена ниже.
154
Подробнее см. в главе «Она уже пришла: „Август Четырнадцатого“» (вторая часть предлежащей книги).
155
Характерно, что, восхищаясь Достоевским, Сологдин вспоминает в первую очередь героев не только таинственно темных, зловещих, но и с выраженной аристократической (барской) статью: «Ставрогин! Свидригайлов! Кириллов! (сверхчеловеку-разночинцу отведено лишь третье место. — А. Н.) — что за люди?» (180).
156
О «двойничестве» этих персонажей см. в главе «Жизнь и Поэзия в романе „В круге первом“». В укоризнах, которые бросает Сологдину Рубин, звучит не только ярость фанатичного коммуниста: «Страна вам плоха! А не вы, богомольцы и прожигатели жизни, довели её до Ходынки, до Цусимы, до Августовских лесов?» (прямая отсылка к будущему Первому Узлу «Красного Колеса»). Что не отменяет частичной правоты в ответной не менее гневной реплике Сологдина: «Ах, уже за Россию вы болеете, убийцы? ‹…› А не вы её зарезали в семнадцатом году» (174–175, 563–572, 506).
157
Выше на вдохновенную речь Ободовского о грядущем освоении северо-востока и подъеме России, население которой может к середине XX века составить «триста пятьдесят миллионов», Архангородский отзывается печальной репликой, готовящей его отчаянное пророчество: «Это в том случае ‹…› если мы не возьмёмся выпускать друг другу кишки». Необходимо отметить, что диалог отца и дочери Архангородских слышит Сонина «гимназическая подруга Ксенья» (VIII, 441, 442), то есть литературная ипостась матери Солженицына. Она не произносит ни слова, но ее присутствие в этой сцене принципиально важно: так Солженицын указывает на свою интимную (семейно-домашнюю) причастность былым спорам, которым еще не раз суждено повториться в других исторических контекстах.
158
Ср. выразительное обобщение в отповеди Нержина: «Да, мерзок наш режим, но откуда вы уверены, что у вас получится лучше? А вдруг — хуже? Оттого, что вы хорошо хотите? А может, и до вас хотели хорошо? Сеяли рожь, а выросла лебеда!.. Да чего там наша революция! Вы оглядитесь на… двадцать семь веков! На все эти виражи безмысленной дороги…» (651).
159
Ср. требования Кондрашёва-Иванова.
160
Даже если взять в расчет персонажей-медиков без историй или с историями минимализированными (главврач, Тургун, Халмухамедов, Евгения Устиновна, Анжелина и др.), картина принципиально не изменится.
161
Толстой Л. Н. Смерть Ивана Ильича // Толстой Л. Н. Собр. соч.: В 20 т. М.: Художественная литература, 1964. Т. 12. С. 77, 78.
162
Ср. в «Одном дне Ивана Денисовича»: «Безотказный этот Алёшка, о чём его ни попроси. Каб все на свете такие были, и Шухов бы был такой» (I, 73).
163
Толстой Л. Н. Корней Васильев // Толстой Л. Н. Указ. соч. Т. 14. С. 232–233, 235–236.
164
Диалог Костоглотова с Митой несколько корректирует семантику названия главы. В нем начинает слышаться не только жесткий сарказм (тема мнимого выздоровления Русанова), но и надежда, пусть неуверенная и «одернутая» названием главы следующей — 34-й. «Потяжелей немного». «Вибрация» надежды проходит сквозь всю повесть, становясь особенно напряженной в финальных главах. «Боже мой, да ведь пора! Да ведь давно пора, как же иначе! Человек умирает от опухоли — как же может жить страна, проращённая лагерями и ссылками?» (436). А ведь живет — и через десять с лишком после описанного в повести «переходного» периода, в пору работы над «Раковым корпусом» и «Архипелагом…», в заключительной части которой читаем: «Правители меняются. Архипелаг остаётся.
Он потому остаётся, что этот государственный режим не мог бы стоять без него. Распустивши Архипелаг, он и сам перестал бы быть» (VI, 443).
165
Безродный Михаил. Конец цитаты. СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 1996. С. 73. Анализируется стихотворение С. Гандлевского «Устроиться на автобазу…» на фоне блоковского «Грешить бесстыдно, непробудно…».
166
Возможно, здесь реминисценция очень популярной в свое время песни «По росистой луговой…» (1947, музыка М. И. Блантера): «Я в глаза ему смотрю. / — Раз такое положенье, / То уж ладно, — говорю, — / Поцелуй без разрешенья» (Исаковский М. В. Стихотворения. М.; Л.: Советский писатель, 1965. С. 288.)
167
http://libretto-oper.ru/tchaikovsky/iolanta. М. И. Чайковский был стихотворцем бесхитростным, а потому простодушно вторил переложению «An die Freude»: «Радость, первенец творенья, / Дочь великого Отца» (Тютчев Ф. И. Полн. собр. стихотворений. Л.: Советский писатель, 1987. С. 62).
168
Хемингуэевский обертон размышлений Костоглотова в чайхане был отмечен; см.: Баранович-Поливанова А. А. Мелко плавает Хемингуэй // Солженицынские тетради: Материалы и исследования. М.: Русский путь, 2013. <Вып.> 2. С. 177. В той же проницательной работе указаны другие вероятные реминисценции прозы американского писателя в сочинениях Солженицына, в частности — в «Раковом корпусе». «Мужчины без женщин» (Men without women) — заглавный рассказ сборника Хемингуэя (1927).
169
Об этом см. в главе «Жизнь и поэзия в романе „В круге первом“».
170
Примечательно, что во всех трех переложениях баллады Бюргера Жуковский не наделяет жениха именем. Так не только в «Людмиле» и «Светлане», но и в ориентированной на точность «Леноре» (у Бюргера жених Леноры поименован — Вильгельм). Безымянным остается и погибший жених верной Веги.
171
Лермонтов М. Ю. Демон: Восточная повесть // Лермонтов М. Ю. Полн. собр. стихотворений: В 2 т. Л.: Советский писатель, 1989. Т. 2. С. 460.
172
«Властитель Синодала» погибает в стычке с осетинами потому, что «презрел… обычай прадедов своих», не помолился в придорожной часовне: «Его коварною мечтою / Лукавый Демон возмущал: / Он в мыслях, под ночною тьмою, / Уста невесты целовал». Прописная буква в слове «демон» указывает, что речь идет не о каком-то из злых духов вообще, но о герое «восточной повести». Того существеннее, что истории гибели жениха предшествует описание пляски Тамары: «И были все ее движенья / Так стройны, полны выраженья, / Так полны милой простоты, / Что если б Демон, пролетая, / В то время на нее взглянул, / То, прежних братий вспоминая, / Он отвернулся б — и вздохнул… (здесь заканчивается главка и начинается следующая, с номером 9. — А. Н.) И Демон видел…» — Лермонтов М. Ю. Полн. собр. стихотворений: В 2 т. Л.: Советский писатель, 1989. Т. 2. С. 443, 441–442.
173
Лермонтов М. Ю. Полн. собр. стихотворений: В 2 т. Л.: Советский писатель, 1989. Т. 2. С. 465.
174
Ср. Толстой Л. Н. Чем люди живы // Толстой Л. Н. Указ соч. Т. 10. С. 252.
175
Толстой Л. Н. Чем люди живы // Толстой Л. Н. Указ соч. Т. 10. С. 262, 263. Солженицын стягивает цитату: последняя фраза — реплика Матрёны после отъезда барина, концовка главки IV рассказа.
176
Толстой Л. Н. Чем люди живы // Толстой Л. Н. Указ соч. Т. 10. С. 259, 260.
177
Толстой Л. Н. Чем люди живы. С. 271–272.
178
О двух редакционных обсуждениях первой части «Ракового корпуса» Солженицын рассказал в «очерках литературной жизни». После первого (18 июня 1966) писатель, уверенный, что повесть принята к печати в любом случае не будет, тактически внес в текст некоторые исправления, в том числе «со вздохом» отсек главу «Тени расходятся». Через неделю правка была сочтена редакцией недостаточной, и автор, не подписав договора, забрал рукопись, уже широко ходившую в самиздате (XXVIII, 151–155). Негативные суждения о 21-й главе, прозвучавшие на дискуссии в ЦДЛ (16 ноября), см.: Стенограмма расширенного заседания бюро творческого объединения прозы московской писательской организации СП РСФСР // Слово пробивает себе дорогу: Сборник статей и документов об А. И. Солженицыне. 1962–1974. М.: Русский путь, 1998. С. 248, 258, 260, 261, 266–267, 269, 274, 284, 290. Ср. также: «Познакомился с Солженицыным. Пятнадцать минут разговаривал около магазина в Жуковке. Его „Раковый корпус“ прекрасный, кроме конца первой части». — Самойлов Давид. Поденные записи: В 2 т. М.: Время, 2002. Т. 2. С. 28 (запись от 27 августа 1966).
179
Статья В. М. Померанцева «Об искренности в литературе» была напечатана в № 12 «Нового мира» за 1953 год (ср. реакцию Донцовой на журнал, который читает Дёмка: «Ой, старый какой, позапрошлого года» (45)). Републикацию статьи см.: Оттепель. 1953–1956: Страницы истории русской советской литературы. Московский рабочий, 1989. С. 17–60. В закрытом постановлении ЦК КПСС «Об ошибках редакции журнала „Новый мир“» (23 июня 1954) таковыми были названы статьи Померанцева, М. А. Лифшица («Дневник Мариэтты Шагинян» — 1954. № 2), Ф. А. Абрамова («Люди колхозной деревни в послевоенной прозе» — 1954. № 4) и М. А. Щеглова («„Русский лес“ Леонида Леонова» — 1954. № 5). Главный редактор журнала был ознакомлен с постановлением 3 августа (этому предшествовали его обращения к партийному руководству); 11 августа состоялось заседание президиума Правления Союза советских писателей, на котором Твардовский был освобожден от занимаемой должности. Здесь А. А. Сурков произнес утвержденный ЦК вердикт: «позиция авторов этих (указанных выше. — А. Н.) статей вызывает такое противодействие потому, что авторы эти под видом критики недостатков советской литературы на тридцать седьмом году нашего пути поставили в „Новом мире“ под сомнение такие ценности, которые святы для нас, для наших читателей у нас в стране и во всем мире. Вот почему так отвратителен нездоровый мещанский нигилизм авторов названных статей в „Новом мире“»; цит. по: <Чупринин С. И.>. Оттепель: Хроника важнейших событий 1953–1956 гг. // Оттепель… С. 440. Подробнее о первом разгроме «Нового мира» см.: Твардовский Александр. Дневник: 1950–1959. М.: ПРОЗАиК, 2013. С. 138–146; ср. также записанный Солженицыным рассказ В. Я. Лакшина о событиях лета 1954 г. (XXVIII, 200–201).
180
Здесь необходима оговорка. Противники «литературного эпизода» находились в иной (худшей) позиции, чем сегодняшние читатели повести; они были знакомы лишь с первой частью, то есть не имели возможности судить о целом. Однако профессиональные литераторы должны были понимать: промежуточный финал любого сколько-то грамотно выстроенного сочинения не может быть случайным или дополнительным, не сцепленным с предшествующим повествованием и не намечающим его перспективу. Сомневаться в квалификации Солженицына у московских литераторов, несомненно прочитавших кроме первой части «Ракового корпуса» хотя бы пять опубликованных рассказов, не было и быть не могло.
181
Стенограмма… С. 294.
182
Строго говоря, не единственный: в тексте представлено лишь одно посещение Русанова старшим сыном, что, разумеется, тоже не случайно. Это решение автора, однако, жестко обусловлено единичностью визита Авиеты, которому посещение Юры противопоставлено по всем параметрам. Поскольку смысловые оппозиции очевидны, укажу лишь формальные: дети приходят к отцу в первой и второй частях повести; дочь перед походом в больницу была в Москве, сын — в глубинке; эпизод Авиеты разворачивается в палате (на глазах у других больных, двое из которых втягиваются в действие), эпизод Юры — на воздухе и без зрителей. Не будь «Раковый корпус» написан, «поздний» Солженицын вполне мог бы выстроить из такого материала «двучастный рассказ».
183
Такая роль в замечательной семье Ростовых отведена Вере (в «правильном» замужестве — Берг).
184
В командировке Юра и «ошибок» наделал, и, разоблачив нищих канцеляристок, одну из них в кино позвал. Неизвестно еще, что бы вышло, если б она не послала борца за государственные интересы куда подальше, а взяла его в оборот (говоря не по-русановски, а по-человечески: поняла, что хотел-то юноша хорошего, простила, полюбила…).
185
Ровно так же мыслит Зацырко: «говорили в палате о сосланных нациях, и Вадим, подняв голову от своей геологии, посмотрел на Русанова, пожал плечами и тихо сказал ему одному (как коммунист — коммунисту. — А. Н.): „Значит, что-то было. У нас даром не сошлют“» (265).
186
О единственном выраженном несогласии «жемчужины русановской семьи» с родителями мы узнаем еще до выхода героини на сцену (глава 13-я «И тени тоже»).
187
И немного далее: «…Русанов поддался заливающему безразличию: пусть Костоглотов; пусть Федерау; пусть Сибгатов. Пусть они все вылечиваются, пусть живут — только б и Павлу Николаевичу остаться в живых.
‹…›
Пусть они живут, и Павел Николаевич не будет их расспрашивать и проверять. Но чтоб они его тоже не расспрашивали. Чтоб никто не лез ковыряться в старом прошлом. Что было — то было, оно кануло, и несправедливо теперь выискивать, кто в чём ошибся восемнадцать лет назад» (223). Здесь не только страх и равнодушие. Из этой точки Русанов мог бы двинуться вверх. Но с ним случилось иначе — дочь обнадежила.
188
Ср.: «Это при Берии за овощи, за фрукты ловили. А сейчас только за промтовары ловят» (446).
189
Если забыть (на минуту, условно!), что такое «всесильное учение» Маркса-Энгельса-Ленина (и иже с ними) и обусловленная им неизбежно человеконенавистническая практика, а затем использовать фразеологизм «настоящий коммунист» в том значении, которое ему приписывалось (порядочный, мужественный, любящий и хорошо знающий свое дело, бескорыстный человек), то из всех персонажей «Ракового корпуса» точно соответствовать этому определению будет именно тихий, скромный, молчаливый — «безцветный» (319) — механик МТС. Несмотря на то, что не выбросил он партийного билета, который палачи, зачислив во враги, оторвав от родного дома, лишив всех прав, сочли полезным у него не отбирать. «Отметка в комендатуре — отметкой, а членские взносы — взносами. Руководящих постов занимать нельзя, а на рядовых постах должны трудиться образцово» (221). Он и трудится. Как прежде. Разговору о дозволении (приказе — поди-ка не подчинись!) сохранить партбилет предшествует история о совершенном Федерау подвиге на предвоенном трудовом фронте, после которого он «чуть не умер от воспаления мозговой оболочки» (220). Ср. об отменном трудолюбии и хозяйственности ссыльных немцев в «Архипелаге…»: «Не зря говорили в прежней России: немец что верба, куда ни ткни, тут и принялся. На шахтах ли, в МТС, в совхозах не могли начальники нахвалиться немцами — лучших работников у них не было. К 50-м годам у немцев были — среди остальных ссыльных, а часто и местных — самые прочные, просторные и чистые дома; самые крупные свиньи; самые молочные коровы. А дочери их росли завидными невестами не только по достатку родителей, но — среди распущенности прилагерного мира — по чистоте и строгости нравов» (VI, 353). Последнее вплотную касается нашего сюжета.
190
Угрюмый квасной патриотизм советских хозяев жизни (и их постсоветских наследников — новых русских) зачастую (хоть и не всегда) сочетается с завистливым восхищением Западом. Ср.: «…доставали (для Авиеты. — А. Н.) вещи с рук, и импортные», «В гостиницах ставят столики низкие — совсем низкие, как у американцев…» (Авиета о московской «революции быта») (242, 243).
191
Фильм «Соломенная шляпка» будет снят только в далеком 1974 году.
192
Вспомним реплику Вадима: «Значит, что-то было. У нас даром не сошлют» (265).
193
Ср. в «Архипелаге…»: «Просмотрим хотя бы хорошо известную всем биографию Ленина. Весной 1887 года его родной брат казнён за покушение на Александра III. ‹…› И что ж? В том же году осенью Владимир Ульянов поступает в Казанский императорский университет, да ещё — на юридическое отделение» (VI, 76). Кстати, процитированная здесь глава Части пятой («Каторга») называется «Почему терпели?». А в разбираемой главе «Ракового корпуса» «Кому что интересно» вспыхивает диалог бывшего зэка с геологом-коммунистом: «Вадим Олегу сказал: „Надо было бороться. Не понимаю, почему вы там не боролись“. (И это — правильно было. Но не смел ещё Олег рта раскрыть и рассказать, что они таки боролись.)» (321). Многочисленные соприкосновения текстов «Ракового корпуса» и «Архипелага…» могут и должны стать темой отдельной работы.
194
Ср. щебет Аси в главе «Дети»: «А спорт как высоко оплачивается! — везут безплатно, кормят на тридцать рублей в день, гостиницы! А ещё премии! А сколько городов повидаешь!» (116). Тут Солженицын вновь заглядывает в будущее. В годы работы над повестью стимулирование детского и юношеского спорта (предполагающее жесткую селекцию и подкуп избранников — как деньгами, так и разного рода преференциями, в том числе приемом в вузы при стремящемся к нулю уровню знаний) приобрело куда большие масштабы, чем в середине 50-х. А дальше — того пуще. Ср. в работе «Как нам обустроить Россию?» (1990): «А вот спорт, да в расчёте на всемирную славу, никак не должен финансироваться государством, но — сколько сами соберут, а рядовое гимнастико-атлетическое развитие даётся в школе» (Солженицын Александр. Публицистика: В 3 т. Ярославль: Верхне-Волжское книжное издательство, 1995. Т. 1. С. 562).
195
Может, и не такому убогому. Мог ведь иногда и загнанный в ссылку незаурядный ученый быть допущен к преподаванию в захолустном учительском институте. Мог там оказаться и молодой ученый, по тем или иным причинам не востребованный более престижными вузами. Между прочим, преподавательская карьера одного из крупнейших русских филологов XX века началась в 1950 году в Тартуском учительском институте; см.: Лотман Ю. М. Не-мемуары // Лотман Ю. М. Воспитание души. СПб.: Искусство — СПб., 2003. С. 43.
196
Маяковский В. В. Полн. собр. соч.: В 12 т. М.: Художественная литература, 1939, 1940. Т. 2. С. 37; Т 6. С. 22.
197
Не о поколении он говорит, а о своем узком круге. О молодых и успешных «технарях». Чья «звездная пора» — в жизни и в литературе — в близком будущем героев «Ракового корпуса», оно же совсем недавнее прошлое (да и настоящее) первых читателей повести. А к поколению Вадима (или чуть младшему) принадлежат и красотка-бездельница Алла Русанова (с которой он корректно, но презрительно пикируется), и Зоя (которой он не замечает), и «развязная» (что правда, то правда!) санитарка Нэля, ненужная человечеству (224), и «невредный парень» Ахмаджан, интересующийся, какая «задача поставлена» перед эвенками (218), и — наверняка — кто-то из женщин, управляющихся в колхозном птичнике (323).
198
Сильно выхолощенный пуристами (идеологами, озабоченными нравственностью советских читателей) перевод Н. М. Любимова был выпущен в 1961 г. издательством «Художественная литература», там же в гораздо более близкой оригиналу версии книга была издана в 1966-м, еще какие-то купюры заполнились в издании 1973 г. Но, кажется, не все.
199
Стихотворение «Физики и лирики» было впервые напечатано в «Литературной газете» 13 октября 1959 г. Вызвало множество полемических откликов. Текст см.: Слуцкий Борис. Собр. соч.: В 3 т. М.: Художественная литература, 1991. Т. 1. С. 351. О генезисе и контексте «Физиков и лириков» см.: Слуцкий Борис. К истории моих стихотворений // Слуцкий Борис. О других и о себе. М.: Вагриус, 2005. С. 189–190.
200
Ситуация близка описанной в «Одном дне Ивана Денисовича». Яростно спорящие об «Иване Грозном» Эйзенштейна апологет эстетики (Цезарь) и хранитель этики («двадцатилетник» Х-123) одинаково не замечают пришедшего с мороза Шухова (I, 60–61); убедительную интерпретацию этой сцены см.: Архангельский Александр. О символе бедном замолвите слово… («Поэзия и правда» в малой прозе Солженицына) // Архангельский Александр. У парадного подъезда: Литературные и культурные ситуации периода гласности (1987–1990). М.: Советский писатель, 1991. С. 257–258.
201
Достоевский Ф. М. Братья Карамазовы // Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л.: Наука, 1976. Т. 15. С. 196. Ср. название главы III Части второй — «Связался со школьниками» (Там же. Т. 14. С. 160). То, что Алешино общение с мальчиками начинается до катастрофы, провиденциального смысла их дружбы не отменяет.
202
Могут возразить. И чтение Толстого (Пушкина, Чехова) в страшные годы многим помогало держаться, и книги современников, свободные от наглой лжи, холуйства и «науки ненависти», напоминающие о красоте природы, высоких чувствах, реальности человеческого благородства, отличии Добра от Зла, кому-то душу согревали. Знал об этом Солженицын. И в «Раковом корпусе» читаем о чувствах ссыльных Кадминых: «Двухтомник Паустовского в книжный магазин привезли — радость!» (231). Что ж, учтем. Но учтем и тихий крик Елизаветы Анатольевны, персонажа со своей судьбой (не такой, как у Кадминых), чьи мысли и чувства не могут (и не должны) в каждой точке дублировать авторские.
203
Липкин Семён. Жизнь и судьба Василия Гроссмана // Липкин Семён. Квадрига: Повесть. Мемуары. М.: Книжный сад, 1997. С. 381.
204
Даже вздорная рекомендация описывать «завтра» учтена. Выше я пытался показать, как Солженицын не раз совмещает время действия повести со временем ее создания, середину 50-х с серединой 60-х.
205
Воскресение Раскольникова, твердо возвещенное автором, не отменяет ни совершенных им убийств, ни безвременной смерти его матери, которая не смогла жить, зная о преступлении сына. Так и в сочинениях более «добрых» или «простодушных» писателей. В предисловии к «Айвенго» (появившемуся через одиннадцать лет после первого издания романа) автор счел должным ответить читательницам, укорявшим его за то, что Ревекка не стала женой заглавного героя: «Читателем романов в первую очередь является молодое поколение, и было бы слишком опасно преподносить им роковую (курсив мой. — А. Н.) доктрину, согласно которой чистота поведения и принципов естественно согласуется или неизменно вознаграждается удовлетворением наших страстей или исполнением наших желаний» (Скотт Вальтер. Собр. соч.: В 20 т. М.; Л.: Государственное издательство художественной литературы, 1962. Т. 8. С. 18). Когда Диккенс (вопреки первоначальному замыслу, вняв дружескому совету) соединил героев «Больших ожиданий», финал романа не стал от того менее печальным.
206
Съезд этот (29 марта — 8 апреля 1966) не вынес Шелепина на вершину; он остался членом Политбюро, еще примерно год намеревался взять реванш, но был резко отстранен от рычагов власти (направлен рулить профсоюзами).
207
Цитирую по комментарию В. В. Радзишевского, где обстоятельно прослежена творческая история повести.
208
В предлежащем издании список этот существенно расширен.
209
Здесь и далее «Красное Колесо» цитируется по последней авторской редакции: Солженицын Александр. Собр. соч.: В 30 т. М.: Время, 2006–2009. Т. 7–16, однако отсылки (в скобках) даются не к томам и страницам, а к главам Узлов. Кажется, это несколько облегчает процесс чтения и соответствует жанру «путеводителя». Для обозначения Узлов используются сокращения: А-14 — «Август Четырнадцатого»; О-16 — «Октябрь Шестнадцатого»; М-17 — «Март Семнадцатого»; А-17 — «Апрель Семнадцатого». Если буквенное сокращение отсутствует (приведена только цифра), имеется в виду тот Узел, которому посвящена соответствующая глава. Например, в Главе I ссылка на эпизод беседы Сани и Коти с Варсонофьевым — (42), в Главе IV ссылка на тот же эпизод — (А-14: 42). Ссылки на иные сочинения Солженицына даются таким же образом, как в первой части предлежащей книги.
210
Вспомним о переходе Сани Лаженицына от первоначальной захваченности всякой новой философской или социально-исторической концепцией к растерянности: «И стал брать его от книг — страх, не прежняя почтительная радость: что никак он не научится автору противостоять, что увлекает и подчиняет его каждая последняя читанная книга» (2). Цитируется здесь характеристика ложного героя поэмы Некрасова «Саша», уподобиться которому страшится Саня: «Что ему книга последняя скажет, / То на душе его сверху и ляжет: // Верить, не верить — ему всё равно, / Лишь бы доказано было умно!» (Некрасов Н. А. Полн. собр. соч. и писем: В 15 т. Л., 1982. Т. 4. С. 25).
211
Тут уместно напомнить, как Герасимович рассказывает Бобынину о «ещё не написанной» картине «Русь уходящая»: «Тут — название, идея. На Руси были консерваторы, реформаторы, государственные деятели — их нет. На Руси были священники, проповедники, самозваные домашние богословы, еретики, раскольники — их нет. На Руси были писатели, философы, историки, социологи, экономисты — их нет. Наконец, были революционеры, конспираторы, бомбометатели, бунтари — нет и их. Были мастеровые с ремешками в волосах, сеятели с бородой по пояс, крестьяне на тройках, лихие казаки, вольные бродяги — никого, никого их нет! Мохнатая чёрная лапа сгребла их всех за первую дюжину лет» (II, 243–244).
212
Сдаться в плен опрометчиво мечтал (и для того дезертировал) случайно ставший спутником Воротынцева Саша Ленартович (45). Попадет в плен и испытает весь его кошмар военный врач Федонин. В этом плане важен его спор с Ленартовичем о войне и офицерском долге (15). В главе о судьбе русского госпиталя в Найденбурге, следующей непосредственно за главой о прорыве группы Воротынцева, то есть об избавлении Ленартовича от плена, Федонин только бегло упомянут (56): значимо, что он оставался на своем месте до конца. О том, что Федонин попал в плен — причем именно в августе 1914 года, — мы узнаем в Четвертом Узле, когда военный врач возвращается в Россию: «Тридцать два месяца, даже и с лишним, девятьсот восемьдесят дней пробыл доктор Федонин в германском плену» (А-17: 176; там же говорится о бесчеловечности в обращении немцев с военнопленными; подробнее этот эпизод будет рассмотрен в главе IV). Заметим, что собственно военная часть «Августа Четырнадцатого» завершается экранной главой, в финале которой возникает: «= Новинка! кон-цен-трационный лагерь!» (58). Обратим внимание на соседство (56-я и 57-я главы коротки) и теснейшую смысловую связь (наглядные итоги самсоновской катастрофы) главы 55-й (с упоминанием 1945 года) и главы 58-й.
213
Это отождествление в дальнейшем становится все более сомнительным. Мы обманываемся и прозреваем вместе с героем. Подойдя к «открытому» финалу «Красного Колеса», внимательный читатель должен усомниться в том, что Андозерская — истинная суженая Воротынцева.
214
Приведем лишь один, но очень показательный пример: «Скончавшийся изуродованный был рядовой запаса Гимазетдин, кричавший в лесу офицер — его сын, подпоручик Галиуллин, сестра была Лара, Гордон и Живаго — свидетели, все они были вместе, все были рядом, и одни не узнали друг друга, другие не знали никогда, и одно осталось навсегда неустановленным, другое стало ждать обнаружения до следующего случая, до новой встречи» (Пастернак Б. Собр. соч.: В 5 т. М., 1990. Т. 3. С. 120).
215
Еще в лагерном 1948 году будущий автор «Красного Колеса» отчеканил: «Когда я горестно листаю / Российской летопись земли, / Я — тех царей благословляю, / При ком войны мы не велели» (XVIII, 222).
216
Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 10 т. Л., 1978. Т. 6. С. 436. На протяжении «Путешествия в Арзрум» Пушкин, разумеется, сложно варьирует «горную» символику (что уже становилось и еще может стать предметом изучения); здесь важно отметить наличие «рамки». Увидев горы после долгой разлуки, повествователь констатирует их неизменность (подразумевается сравнение с теми переменами, которые произошли и в жизни страны, и в жизни самого поэта). Покидающему Кавказ (на последнюю ночь пришлась буря) странствователю близ Казбека открывается прощальное «чудное зрелище»: «Белые, оборванные тучи перетягивались через вершину горы, и уединенный монастырь, озаренный лучами солнца, казалось, плавал в воздухе, несомый облаками». Готовя «Путешествие в Арзрум» к печати, Пушкин, несомненно, предполагал, что читатель распознает в процитированном фрагменте отсылку к уже опубликованному стихотворению «Монастырь на Казбеке», что резко усиливает контраст мира дольнего, куда поэт возвращается, и влекущего, но пока недостижимого мира горнего: «Далекий, вожделенный брег! / Туда б, сказав прости ущелью, / Подняться к вольной вышине! / Туда б, в заоблачную келью, / В соседство Бога скрыться мне!..» (Там же. Т. 6. С. 476; Т. 3. С. 134).
217
Толстой Л. Н. Собр. соч.: В 20 т. М., 1961. Т. 3. С. 174. Заметим, что у Толстого горы открываются Оленину ясным утром (ср. «зорное утро» Солженицына) и возникает мотив оптического обмана (мнимой близости гор), также Солженицыным повторенный.
218
Лермонтов М. Ю. Соч.: В 6 т. М.; Л., 1957. Т. 6. С. 261, 327, 331, 322.
219
Лермонтов М. Ю. Полн. собр. стихотворений: В 2 т. Л., 1989. Т. 2. С. 61, 76, 39, 489, 54.
220
Газетные фрагменты, представленные в главе 7’’, фиксируют общий переход от мира к войне. Разумеется, рекламные объявления, с которых начинается коллаж, не приурочены к какому-либо локусу, а исторические события, освещаемые далее, происходят преимущественно в столицах и на открывшемся театре военных действий. Важно, однако, что читает эти самые газеты (и проникается их оптимизмом) Роман Томчак (9), — газетная глава встроена в контекст сплотки глав дофронтовых, северокавказских. Примечательно, что открывается газетный монтаж объявлением «ЖИВОЙ ТРУП тот, кто не знает волшебного действия лециталя…». В рекламе используется вульгарно вывернутое речение Толстого (название его трагической пьесы о грешном, но живом человеке в мертвом казенном мире). Тот же оксюморон (опять-таки со значением сдвинутым, но зловеще) служит прозвищем одного из главных виновников самсоновской катастрофы — генерала Жилинского. На совещании у великого князя (заключительная глава Первого Узла) «Воротынцева крутило и жгло. Во всей России, во всей воюющей Европе никто ему не был так ненавистен сейчас, как этот Живой Труп» (82).
221
Ср. в навеянном эйфорией начала войны стихотворении Мандельштама «Европа»: «Европа цезарей! С тех пор, как в Бонапарта / Гусиное перо направил Меттерних, — / Впервые за сто лет и на глазах моих / Меняется твоя таинственная карта!» (Мандельштам О. Полн. собр. стихотворений. СПб., 1995. С. 121).
222
«Лишь это узкое братство генштабистов (к которому принадлежит Воротынцев. — А. Н.) да ещё, может быть, кучка инженеров знали, что весь мир и с ним Россия невидимо, неслышимо, незамечаемо перекатились в Новое Время, как бы сменив атмосферу планеты, кислород её, темп горения и все часовые пружины. Вся Россия, от императорской фамилии до революционеров, наивно думала, что дышит прежним воздухом и живёт на прежней Земле, — и только кучке инженеров и военных дано было ощущать сменённый Зодиак» (12). Здесь автор словно бы договаривает за героя, делая логичные выводы (по контрасту и с учетом реальностей XX века, которые Воротынцев предчувствует, а автор знает доподлинно) из грустных размышлений полковника о штабной дури, профессиональной слабости генералитета, общем презрении к военной науке, правиле старшинства при чинопроизводстве и прочей привычной и губящей армию рутине. Генерал Артамонов, в корпус которого скачет Воротынцев, очень скоро «проиллюстрирует» действиями «общие соображения» генштабиста — зловеще выразительно и, увы, неоспоримо.
223
Здесь не могут не вспомниться размышления толстовского Кутузова после Бородинского сражения: «Но этот вопрос интриги (Бенигсена, настаивающего на новом сражении под Москвой. — А. Н.) не занимал теперь старого человека. Один страшный вопрос занимал его ‹…› „Неужели это я допустил до Москвы Наполеона, и когда же я это сделал?“» И далее, отдав приказ об отступлении («властью, врученной мне моим государем и отечеством»), Кутузов думает «все о том же страшном вопросе: „Когда же, когда же наконец решилось то, что оставлена Москва? Когда было сделано то, что решило вопрос, и кто виноват в этом?“
— Этого, этого я не ждал, — сказал он вошедшему к нему, уже поздно ночью, адъютанту Шнейдеру, — этого я не ждал! Этого не думал!» (Толстой Л. Н. Собр. соч.: В 20 т. М., 1962. Т. 6. С. 309, 314).
Разница в том, что Кутузов уверен в своей правоте и будущей победе («Да нет же! Будут они лошадиное мясо жрать, как турки…»), а Самсонов — в будущих поражениях. Как рисующий Кутузова Толстой не может отвлечься от своего (и общего) знания об итогах Отечественной войны, так и Солженицын строит образ уходящего Самсонова с учетом печального (и тоже известного) будущего. Следует отметить, что Самсонов отнюдь не играет в толстовского Кутузова, как оправдывающий красивой «аналогией» свои трусость и карьеризм генерал Благовещенский (53).
224
Солженицын всегда придает центральной, делящей повествование пополам, главе особое значение. В других Узлах «Красного Колеса» такую позицию занимают эпизоды, посвященные: отчаянию, охватывающему Ленина («А буржуазный мир — стоит невзорванный») ровно за год до того дня, что войдет в историю как день октябрьского — большевистского переворота (О-16: 37); одиночеству Государя после отречения и его тщетной надежде на «вызволяющее всех Чудо» (М-17: 353); встрече Сани Лаженицына и Ксеньи Томчак (А-17: 91). Прежде этот композиционный принцип использовался в романе «В круге первом» (52-я глава, завершающаяся тостом Щагова «за воскресение мёртвых!») и в «Раковом корпусе» (последняя глава первой части — 21-я, «Тени расходятся» — предшествует временному перерыву действия; заканчивается она «литературным» разговором Дёмки, Авиеты и Вадима, в котором косвенно манифестируется авторская позиция и задается «код» прочтения повести).
225
См. Толстой Л. Н. Указ. соч. Т. 9. С. 390–445 (в особенности — 430–437); Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1983. Т. 25. С. 193–223.
226
Впрочем, в «Марте Семнадцатого» Крымов действует достаточно энергично; подробнее об этом см. в главе III.
227
Солженицын А. Публицистика: В 3 т. Ярославль, 1995. Т. 1. С. 447.
228
«Красное Колесо» — книга о России. Ни один писатель не смог бы в равной мере запечатлеть судьбу (вину и трагедию) всех держав, развязавших бойню 1914–1918 годов либо в нее втянувшихся. Первая мировая война покоя и благополучия не принесла ни одной стране, включая те, что в Версале торжествовали победу. И это куда существеннее, чем вопросы о том, кто первый начал, кто больше виноват и кто кого обманул.
229
Толстой Л. Н. Указ. соч. Т. 6. С. 7.
230
Гумилев Николай. Соч.: В 3 т. М.: Художественная литература, 1991. Т. 1, С. 172.
231
Солженицын А. Публицистика. Т. 2. С. 441.
232
Сама эта формулировка, вложенная в уста генерала Нечволодова, прозвучит лишь под занавес Второго Узла (О-16: 68).
233
Вероятно, не в последнюю очередь, писатель хотел здесь обратить внимание на жанровые (а соответственно и общепоэтические, и смысловые) различия меж его крупными сочинениями — «Раковым корпусом» (повесть) и «В круге первом» (роман, если уж нет другого слова). Напомню, что «жанровый экскурс» возникает в связи с эпизодом в редакции «Нового мира»: автору предлагают «для весу назвать рассказ („Один день Ивана Денисовича“; вернее, еще „Щ-854“. — А. Н.) повестью». Тогда Солженицын согласился, но задним числом счел редакторское решение и свое согласие ошибочными: «Зря я уступил. У нас смываются границы между жанрами и происходит обесценение форм».
234
Солженицын А. Публицистика: В 3 т. Ярославль, 1997. Т. 3. С. 489–495 (особенно 492–493); 210–224 (особенно — 220–224).
235
Не говоря о двух главных линиях (Анна — Вронский и Кити — Левин) и служащей связующим звеном семье Облонских, напомним, что в романе Толстого представлены: несостоявшееся соединение «бесполых» Кознышева и Вареньки; преданность «дурной» сожительницы беспутному и несчастному Николаю Левину; духовные утешения Каренина с графиней Лидией Ивановной; узаконенный великосветский разврат; «женский вопрос» (обсуждается в доме Щербацких); молодайка, встреченная Долли на постоялом дворе, что без печали говорит о смерти своей дочери; ревность Левина к Васеньке Весловскому; обыкновенная счастливая жизнь в замужестве за Львовым средней из сестер Щербацких (она не описана подробно, но отчетливо обозначена); семейные заботы художника Михайлова… — список может быть продолжен.
236
Толстой Л. Н. Собр. соч.: В 20 т. М., 1963. Т. 8. С. 7.
237
Благодетелем Арсения стал, как явствует из реплики подполковника Бойе, заменивший командира бригады полковник Смысловский, который «может отпустить (и отпустит. — А. Н.), на свой риск» (2). Смысловский — один из братьев, семью которых посещают Воротынцев с Алиной; в этом эпизоде упомянут и командир Лаженицына и Благодарёва: «Вот, Михаила жалко нет» — ансамбля без него, виолончелиста, не составить. «Так это сказал — „Нет Михаила“ — будто не шла Великая война и Михаил не командовал сейчас Гренадерской артиллерийской бригадой, а лишь вот на час отлучился» (58). Перед нами пример незаметного соприкосновения судеб персонажей: Воротынцев был с Благодарёвым в дни самсоновской катастрофы и помог солдату перейти в артиллерию, Благодарёв служит под началом Лаженицына, но сами главные герои «Красного Колеса» не знакомы; Благодарёву невдомек, что полковник, с которым он выходил из окружения, приятельствует с братьями полковника, который отпустил его домой. Этот — принципиальный для «повествованья в отмеренных сроках» — художественный прием подробно охарактеризован в главе I.
238
Главой раньше жизнелюб Чернега размышляет, идти или не идти ему к сударке, выдает как общее суждение о женском поле («Да у баб рази — как у нас? А отчего, ты думаешь, они весёлые или хмурые? да всё от этого, было или не было»), так и частное — похабщину о царице и Распутине (3). Ниже тот же Чернега полушутливо соблазняет Благодарёва не мечтать об отпуске, а перейти в его взвод («Будем до баб вместе ходить») и посмеивается над желанием Арсения увидеть детей: «Фу-у, добра! Да новых сделаем, старых забудешь» (4). Эти мотивы отзовутся в каменских эпизодах.
239
Томятся все (если не касаться патологических случаев), но ведут себя солдатки неодинаково. Тут уместно вспомнить историю няни Воротынцевых, у которой после кончины мужа (вдруг стал солдат Иван Тихонов «не жив», хотя «войны никакой не было») вся «личная жизнь» кончилась. Совсем молодой была, легко могла бы выйти замуж, родить сына, взамен Архипушке, который вскоре последовал за отцом, а провековала весь свой век в людях, при чужих детях (18).
240
Впрочем, декадентский рисунок эпизода (соотносящий его с рядом петроградских сцен) заземлен другой скрытой цитатой. Сквозь «Уже очень ему досаждало, что отец всё слал его в земскую школу, и переростком. И никак он там не справлялся кончить науки» (45) отчетливо слышится чистосердечное признание «героя на все времена» Митрофанушки Простакова: «Не хочу учиться, хочу жениться».
241
Страшный конец — участь многих персонажей «Красного Колеса», но Солженицын далеко не всегда сообщает о нем читателю. Иногда в том нет необходимости — кто же не знает, что сталось с царской семьей. Потому тревожные раздумья государыни о будущей участи дочерей (64) воспринимаются в двойном свете. С одной стороны, читатель, узнавая о действительно сложных — и редко обмысливаемых — матримониальных проблемах царского дома, сочувствует Александре Фёдоровне, а еще больше — великим княжнам, которым труднее, чем кому-либо, достичь человеческого счастья. С другой — помня о екатеринбургском убийстве, невольно воспринимает предреволюционные раздумья царицы как мелкие, недальновидные, барские. Об этом ли думать надо было? Но ведь и об этом — тоже. Материнские чувства невозможно отменить, даже если страна катится в пропасть, а политического ума Бог не дал! Ничего не говорится и о страшном конце Шингарёва, убитого пьяной матросней в больничной палате ночью с 7 на 8 января 1918 года. Меж тем, хотя дикая расправа с бывшими министрами Временного правительства (вместе с Шингарёвым погиб Ф. Ф. Кокошкин) потрясла Россию, в 1970-е годы, когда шла работа над «Октябрем…», факт этот был известен немногим. (Да и сейчас так.) Правда, описывая думское заседание (23 февраля 1917), Солженицын называет выступавшего там Шингарёва «закланцем нашей истории» (М-17: 3’), но намек его далеко не всем внятен. И о самоубийстве генерала Крымова (в пору так называемого Корниловского мятежа) сообщено только в конспективном изложении Узла Шестого («Август Семнадцатого»), но не там, где Крымов появляется (А-14: 16) или значимо упоминается (42). А вот о гибели удивительного инженера-оборонца-революционера сказано не только в «Замечаниях автора к Узлу Второму» (здесь назван прототип — Пётр Акимович Пальчинский), но и в тексте: «и расстреляли чекисты Ободовского» (31). Это (в скобках данное) сообщение введено в гвоздевскую главу, входящую в ту «сплотку», которая начинается на рабочем месте Ободовского (Дмитриев обсуждает с ним отказ обуховцев от сверхурочных), а завершается поцелуями Матвея и Верони.
242
Эпизод ожидания революции (в октябре 1916 года — не выявившейся) отзовется в следующем Узле. 26 февраля в квартире Шингарёва нежданно появится Струве и скажет: «Надо идти». Ибо что-то начинается. Шингарёв двинется с ним пешком (трамваи уже не работают, извозчиков нет). Оглянет с Троицкого моста великолепную (тщательно прописанную) панораму города, празднично освещенного зимним солнцем. Выслушает монолог Струве о свободе, в которой должна звучать вся русская история. «Иначе это не свобода будет, а нашествие гуннов на русскую культуру». Почувствует что-то особенное. «Однако — нигде ничего не происходило ‹…› Нигде ничего не происходило — и жаль. И — жаль было Шингарёву: опять победила власть, и опять потащит Россию по старой колее» (М-17: 44; эпизод подробно рассмотрен в главе III). Знал бы он, как страшно ошибается. Куда сильнее, чем его преждевременно обрадовавшиеся гости четыре месяца назад.
243
Презрительная оценка Милюкова-историка звучит и из уст Андозерской (29); есть основания полагать, что суждения эти близки автору, но все же следует учитывать, что высказывают их персонажи, наделенные определенным идеологическим кругозором и конкретными человеческими чувствами. Андозерская и Варсонофьев не могут не проецировать Милюкова-политика на Милюкова-историка (все же не случайно бывшего любимым учеником Ключевского), не могут не испытывать толики ревности «неудачников» к успешливому «карьеристу». Укажу еще на две сходные ситуации. Когда Государь иронично оценивает исторические труды великого князя Николая Михайловича, нельзя игнорировать личные мотивы этого мнения. Во-первых, император предчувствует неприятный разговор и давно дядюшкой раздражен (не без причины); во-вторых, он сам увлечен русской историей. Но не иметь «лучшего предмета для чтения и размышления» и заниматься наукой суть разные вещи. Николай Михайлович ведет разговор не лучшим образом (впрочем, видим мы его глазами Государя), но и в этой беседе обнаруживает чутье историка. Его сравнение безукоризненно умеющего себя вести и располагать к себе людей, но мнительного, склонного менять решения и откладывать важнейшие проблемы на потом Николая II с другим «великим шармёром», Александром I (69), совсем не бессмысленно. (Напомню, что «уклончивая» политика Александра Благословенного — как в отношении тайных обществ, так и в вопросе о престолонаследии — поставила Россию на грань смуты. Великий князь Николай Михайлович занимался преимущественно Александровской эпохой. И довольно успешно.)
Когда отец Северьян (высказывающий немало глубоких мыслей) утверждает, что Толстой «никогда в православии не был», — это тезис спорный, но его ссылка на «Войну и мир» просто неверна: «Уж такую быль богомольного народа поднимать, как Восемьсот Двенадцатый, — и кто и где у него молится в тяжёлый час? Одна княжна Марья?» (5). Пережив курагинскую историю и длительную болезнь, говеет и молится Наташа; причастившись, «она в первый раз после многих месяцев почувствовала себя спокойной и не тяготящеюся жизнью, которая предстояла ей». Следующая глава посвящена обедне в домовой церкви Разумовских, где, слыша возглас священника «Мiром Господу помолимся», Наташа думает: «Мiром, — все вместе, без различия сословий, без вражды, а соединенные братской любовью — будем молиться». Перед Бородинским сражением поднимают икону Смоленской Божьей Матери, на которую «однообразно жадно» смотрят солдаты и ополченцы, серьезное выражение чьих лиц поглощает все внимание Пьера. Молится с детской страстностью в Воронеже Николай Ростов, пусть и «умиленный воспоминаньями о княжне Марье», — и его молитва действительно не о пустяках, он просит Бога (сам того не вполне понимая) не столько о разрешении своих отношений с Соней, сколько о счастье всей будущей жизни. Денисов, возглавив партизанскую партию, не только надевает чекмень и отпускает бороду, но и носит на груди образ Николая Чудотворца — и это не кажется барским маскарадом, подыгрывающим народным чувствам. Услышав об оставлении Москвы французами, Кутузов «повернулся ‹…› к красному углу избы, черневшему от образов.
— Господи, Создатель мой! Внял Ты молитве нашей… — дрожащим голосом сказал он, сложив руки. — Спасена Россия. Благодарю Тебя, Господи! — И он заплакал» (Толстой Л. Н. Указ. соч. Т. 6. С. 84, 87, 222–223; Т. 7. С. 35, 160, 131). Не касаюсь здесь более сложных ходов (вера Платона Каратаева и ее воздействие на Пьера). Захваченный полемикой с действительно антицерковным учением Толстого, отец Северьян читает (помнит) «Войну и мир» весьма пристрастно.
244
Еще одна версия семейного счастья представлена домом Смысловских, куда Воротынцевы приходят, дабы отвлечься от ворвавшегося в их жизнь разлада (узнавшая об измене мужа Алина не может провести вечер в своем «гнёздышке»). Удивителен (слово то ли Воротынцева, то ли автора) состав дружного семейства, обретающегося, как положено хорошему московскому дворянству, в одном из арбатских переулков («близ Сивцева Вражка, прямо против церковушки Афанасия и Кирилла»): «тут не было ни одной брачной пары, ни одного ребёнка, а — незамужняя сестра и, младше её, трое холостых, совсем не молодых братьев», но трое остальных (женатых) «приезживали гостить с внуками» (58). Здесь политические убеждения значат много меньше, чем профессиональная общность (артиллеристы и математики), музицирование, всякого рода увлечения (от кулинарии до фотографирования) и, разумеется, семейственная приязнь. Да, об общественных вопросах за столом говорят, явно левую курсистку принимают приветливо, но уже при первом появлении Алексея Смысловского (в Первом Узле) сказано, что покойного тестя своего, генерала Малахова, подавившего в 1905 году московское восстание, он «очень уважал» (А-14: 21). Теперь же выясняется, что сын Алексея «и монархист, и националист (как вспомнившийся Смысловскому Нечволодов, „вояка — замечательный“. — А. Н.), и недоволен отцом» (58), но почему-то это недовольство не кажется слишком горячим. Странная, обаятельно хаотичная, но счастливая семья Смысловских ненавязчиво сопоставлена с обаятельно правильной (и совершенно единой) семьей Шингарёвых. У «чужих» (кадетских интеллигентов) Воротынцев приметил живое и доброе (в самом Шингарёве, в славных девочках); у «своих» столкнулся с неожиданностями (офицеры подтрунивают над монархизмом и сочувствуют «общественности»). Следствием ознакомительно-делового визита и напряженно-тревожного вечера (внутренний спор с собравшимися во время рассказа о войне, обманчивый сигнал о начале смуты) стала неодолимая и поднимающая дух любовь к Ольде. Вечер, который должен был успокоить Алину (и вроде бы удался), в итоге только растравил ее душевную рану, после него она и сорвалась в Петроград: «посмотреть на твою красавицу-интриганку» (59). По-другому семейство Смысловских (круг Воротынцева) соотнесено с окружением Алины. Предшествовавший отъезду Воротынцева в Петроград музыкальный вечер у Мумы лишен семейной теплоты, пропитан «политическими» сплетнями, аффектированно современен и претендует на изыск (11). Мы знаем, что Сусанна Корзнер замужем за известным адвокатом, что у них есть восемнадцатилетний сын, что у Корзнеров роскошная квартира, автомобиль, ложа в Большом театре, что здесь придерживаются левокадетских (если не еще более радикальных) взглядов, что Корзнер грозит «абсолютно безнадёжной» власти, которая ничего другого понять не может, «кулаком» (8), а Сусанна остро переживает «еврейский вопрос» и гордится своим народом (9), но о личных отношениях супругов не говорится ни слова — это «никакая» семья, хотя Сусанна упоена своим положением и поминает легенду о кольце Поликрата. Сопоставив дом Смысловских и близкий круг Алины, понимаешь, что расхождение Воротынцевых и до роковой встречи Георгия с Ольдой было достаточно серьезным. Более глубоким, чем казалось что-то смутно угадывающей Алине.
245
Воротынцев прощается с женой на могилёвском вокзале 5 мая 1917 года. Судя по некоторым намекам — навсегда. Но намеки эти сознательно затуманены автором. Нельзя понять, по воле ли Воротынцева расставание окажется окончательным, доведет ли дело до конца Алина (Георгий вспоминает ее слова «Нам не жить» и соглашается: «она угадала») или за супругов все решит судьба, то есть бушующая вовсю революция.
«Со всем, со всем нам придётся расстаться: и друг с другом, и с этим последним солнцем, и с этим городом, и с этой страной.
И может быть — скоро…» (А-17: 173). В завершающей «Красное Колесо» главе Воротынцев, пытающийся с могилёвского Вала разглядеть грядущее, Алину не вспоминает (А-17: 186).
246
Мотивы болезни Гучкова, семейного разлада, толкающего его на резкие действия, и необдуманности заговора будут развернуты в Третьем Узле. В самый канун событий оставшийся один дома Гучков вспоминает о своей упущенной любви — к великой актрисе Вере Комиссаржевской (Гучков любил ее, но «…велеть — „иди за мной!“ — никогда не мог. Не смел» — слишком уважал творческую личность, идущую своей дорогой). Она и сосватала Гучкову (понимая, что у него тоже великий путь, движению по которому решающая свои задача женщина только помешает) любимую подругу — Машу Зилоти, ставшую крестом Александра Ивановича (М-17: 39). Вымогать у царя отречение Гучков бросается еще и потому (конечно, это не единственная причина!), что нет сил переносить мрачную жену (М-17: 326). Уже в вагоне, обсуждая предстоящее нешуточное дело с Шульгиным, он спохватывается: год намереваясь добиться отречения, не выяснил, что говорится о том в «династических правилах», не задумался о прецедентах, не выстроил в уме самой процедуры (М-17: 326). Нездоровье Гучкова — лейтмотив и «Марта…», и «Апреля…».
247
В связи с Верой подробно разрабатывается мотив тихого разлада Воротынцевых-родителей в старости, бегло упомянутый в Первом Узле: «…что ж это было между мамой и папой? Как будто не взрыв, не ссора, не раскол — но стали обособляться, разделяться душевный мир того и другого, сосредоточиваться каждый отдельно. Как будто и поцелуи, как будто и ласковые обращения, но что-то из них ушло? — вероятно, им двоим очень заметно, но не названо» (18; ср. А-14: 13). Трудно дается любовь этой семье.
248
Толстой Л. Н. Указ. соч. Т. 10. С. 433.
249
Потому, рассказывая о «кадетских истоках», Солженицын находит должным напомнить и о ломавших национальный уклад преобразованиях Петра, и о трагедии церковного раскола (7’).
250
«Гвоздев стал одним из мучеников-долгосидчиков ГУЛАГа. Первый раз чекисты хватали его в 1919, но он сумел ускользнуть (а семью его долго держали в осаде, как под арестом, и детей не пускали в школу). Потом арест отменили, но в 1928 взяли окончательно, и с тех пор он непрерывно сидел до 1957 года. В этом году вернулся тяжело больной и вскоре умер» (IV, 287–288).
251
Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1975. Т. 13. С. 113.
252
Об этой череде эпизодов см. также в главе I.
253
Лермонтов М. Ю. Полн. Собр. стихотворений: В 2 т. Л., 1989. Т. 2. С. 60.
254
О «закадровой» судьбе Воротынцева см. в главе I и главе V. В трагедии «Пленники» (которую автор мыслил Пятым Эпилогом «Красного Колеса») Воротынцев, кроме прочего, говорит чекисту-соблазнителю: «…вы украли Кутепова — и что с ним сделали? Может, и повесили. (В 1930 году агенты ОГПУ во Франции захватили Кутепова, возглавлявшего в ту пору „Русский общевоинский союз“, дабы доставить его в СССР; считается, что похищенный умер в пути. — А. Н.) А Кутепов был мой друг. Так вешайте и меня» (XIX, 254). В «Красном Колесе» пути Воротынцева и Кутепова не скрещиваются, но их едва ли случайное сходство (на грани двойничества) кажется предвестьем будущей встречи (всего вероятнее — после большевистского переворота) и дружбы.
255
Недальновидные самолюбцы только упиваются своим — недолго ему длиться — часом, с удовольствием ворошат старые обиды и заранее радуются тем скорым триумфам, что никогда не осуществятся. Едва ли не самый выразительный пример — назначенный Верховным главнокомандующим великий князь Николай Николаевич (391, 417, 457, 491).
256
Когда большевики примутся строить свое невиданное государство, они (чем дальше, тем больше) будут использовать вывернутые, искореженные, лишенные подлинного содержания формы прежнего государственного (общественного, культурного) уклада, имитируя (зловеще пародируя) как империю, так и демократию (сталинская конституция, как известно, была самой демократической в мире). Поскольку до конца формы выхолощены не были, эта — накопленная веками российской истории — инерция (в жутком сочетании с мощной системой тотального принуждения) до поры обеспечивала те самые наглядные и бесспорные успехи (в промышленном производстве, науке, образовании, медицине, культуре), которые почитатели Ленина-Сталина по сей день ставят их партии в заслугу. Инерция эта иссякала от десятилетия к десятилетию, поневоле уступая место накапливаемой инерции советчины. Ее же последействие отчетливо и тягостно сказывается на протяжении всего новейшего периода нашей истории.
257
Ни одному из главных «движителей» русской революции она ничего хорошего не принесла. В лучшем случае — изгнание. И это касается не только «цензовиков» и генералов, но и левых социалистов, включая демона-теоретика Гиммера. Урожай достанется двум статистам: несколько раз иронично упомянутому туповатому петроградскому подручному Шляпникова и вернувшемуся в середине марта из сибирской ссылки молчуну с трубкой («И за что его, такого несамостоятельного, сделал Ленин членом ЦК?» (569)) — это будущий многолетний глава правительства и милюковского министерства и будущий хозяин страны, Молотов и Сталин.
258
Тем значимей кажется отмеченное выше исключение — сходство Воротынцева и Кутепова. Вероятно, это объясняется тем, что Солженицын счел должным сделать протагонистом (а Воротынцев, при всех оговорках о принципиальной установке автора на полифонию, все же главный герой повествованья) персонажа вымышленного, в которого вложил некоторые черты исторического Кутепова. С другой же стороны, он не мог (не хотел) приписать героические действия Кутепова в Петрограде Воротынцеву. И ради исторической (и этической!) точности (нельзя не воздать долг мужеству реального человека), и потому, что эпизод с Калисой (весьма значимый для сюжетной линии Воротынцева) мог произойти только в Москве и только в роковые дни.
259
Мотив «слепоты», то реальной, то метафорической, сопрягаясь с близкими ему мотивами «глухоты», «путаницы», «маскарада», «обмана», проходит сквозь весь Третий Узел. Сущность многолетней деятельности оппозиционных партий идеально точно описывает вопросительная реплика Струве: «Все мы Россию любим — да зряче ли?» (44). Обычные люди (не только радикальные интеллигенты и угодливые газетчики) не хотят видеть революционных зверств. Ложная информация становится одним из важнейших средств давления на императора и генералитет: они действуют вслепую, не видя, что же происходит в столице. «Шутка» ротмистра Вороновича может быть провернута только в темноте: «Вот-вот забрезжит, и увидят бородинцы (уже разоруженные. — А. Н.) единственную пушку без замка, два пулемёта без лент и никакой силы при вокзале» (304). Удивительно, но один раз слепота (сопряженная с карнавальным блеском) оказывается спасительной. Ожидая в комнате с двумя зеркалами неминуемой расправы, Кутепов «увидел в каждое из зеркал, как по каждой из анфилад бежал, приближался рабочий с револьвером в руке. Они настолько были похожи, сходностью роста, типа, и чернотою одежды, и красной розеткой на левой стороне груди, что сперва ему померещилось, что один есть отражение другого, потом сообразил, так быть не может.
Ещё потом сообразил, что если он их видит из угла, то и они каждый уже видят его в углу. ‹…›
А случилось иначе: они не видели. Верней, они были, наверное, заворожены своим собственным страшным видом, вряд ли они имели привычку к большим зеркалам. И ещё было яркое солнце в окна.
‹…› Удалились — Кутепов перекрестился. Это было то, что называется простое Божье чудо. Бог просто отвёл им глаза» (180).
260
Депутат Учредительного собрания от кадетской партии Фёдор Фёдорович Кокошкин (как и Андрей Иванович Шингарёв) будет беззаконно арестован большевиками. Оба зверски убиты в больнице, где содержались после ареста, ворвавшимися туда пьяными матросами.
261
Здесь, однако, не обойтись без оговорок. Варсонофьев обрел мудрость после того, как прошел сквозь революционные искушения, «начинал вместе с ними со всеми — с Петрункевичем, Шаховским, Вернадским. ‹…›
Да всего десять лет назад Варсонофьев был в их крикливой мелочной толпе, с Родичевым, Винавером, Милюковым. Вполне искренно был горячим депутатом Второй Думы — и ещё не усумнялся в жаре борьбы» (О-16: 73).
Что же до Андозерской, то, чувствуя к революции лишь презрительную ненависть, она почему-то верит, «что именно этот гибельный ход, передвижка, перестановка всего сущего, — именно этот ход и принесёт ей Георгия. Сами события в нарастающем хаосе — соединят их. Прочно, и без борьбы» (619). И кажется, ошибается. Свести-то революция может кого угодно, да вот счастье не при всякой горячо желанной встрече обретается. Не только для того, чтобы умиротворить Алину, Воротынцев сорвался из Петрограда в Москву (35); не было у него полной радости при втором соединении с Ольдой. Прочитав по возвращении домой «разрывное» письмо Алины, Воротынцев рефлектирует: «Если бы сейчас Ольда была в Москве — ринулся бы к ней?
Ох, нет.
Что-то и с Ольдой — не так…» Было бы «так» — не послал бы записку к Калисе (95), не пошел бы к ней — уже зная зачем — ужинать (126).
262
Выстраивая треугольник Ленартович — Ликоня — Польщиков, Солженицын переосмысливает сюжет о юноше, идущем в революцию, дабы отмстить за поруганную представителем «старого мира» красоту (так в «Докторе Живаго» поступает Антипов, ставший Стрельниковым). Автор «Красного Колеса» радикально меняет акценты: Ликоня не соблазнена Польщиковым, но всей душой его любит; Ленартович сполна отдается революции независимо от чувства к Ликоне и до ее «грехопадения»; Польщиков обрисован с симпатией, хотя, скорее всего, ему не удастся защитить Ликоню от ворвавшегося в мир зла. Стать «новым Мининым», то есть спасителем России, ему точно не удастся. Поэтому звучащий в финале польщиковской главы вопрос: «Да не упущено ли уже, православные?..» (648) — оказывается двупланным. Сквозь его конкретный экономический смысл (который очень скоро станет политическим) просвечивает смысл романный: достоин ли гордый и удачливый волжанин такой всепоглощающей страсти? Не упустит ли он за крупными, привычными и новыми, принесенными революцией, хозяйскими делами свою любовь? На что своим отъездом он обрекает Ликоню? В Четвертом Узле Польщиков и его «Зоренька» отодвинуты на периферию повествования, но не исчезают, а письмо Ликони к возлюбленному полнится неподдельной болью:
«Что же с нами будет? В этих бурях я боюсь и совсем потерять к вам последнюю ниточку.
Ой, не кончится это всё добром. Это — худо кончится…» (А-17: 162).
В письме Ликони ее беда сливается с бедой общей — «не кончится добром» как ее истаивающая связь с Польщиковым, так и все, что творится кругом. Символическое (блоковское) отождествление Ликони и России проводится ненавязчиво, но последовательно. Другой — польщиковский — аспект этого сюжета рассмотрен в главе IV.
263
Гоголь Н. В. Полн. собр. соч.: <В 14 т.>. <Л.>, 1938. Т. 3. С. 45.
264
Гоголь Н. В. Полн. собр. соч.: <В 14 т.>. <Л.>, 1938. Т. 6. С. 203, 204.
265
Потому не так уж и важно, что в Четвертом Узле Кирпичников и другие волынцы, словно бы искупая свою старую вину, намереваются арестовать Ленина, впрочем, безуспешно (А-17: 29, 75). Дело не в одном унтере, но в той обиженной солдатской массе, которую он воплощает.
266
Здесь невозможно обсуждать сложный, весьма болезненный и породивший великое множество противоречащих друг другу концепций вопрос о том, какую роль в русской истории (в том числе новейшей) сыграл географический фактор — пространственная огромность и неисчислимые природные богатства нашей страны.
267
«Март Семнадцатого» отделяют от «Октября Шестнадцатого» три с половиной месяца (4 ноября — 23 февраля), «Октябрь…» от «Августа Четырнадцатого» — два года и почти два месяца (21 августа 1914 — 14 октября 1916); рассказ становится все более густым — эта тенденция продолжится в конспекте ненаписанных Узлов «На обрыве повествования», посвященных 1917 — началу 1918 г., где практически на каждый месяц приходится новый Узел. Затем (начиная с Узла Тринадцатого — «Ноябрь Семнадцатого») временные лакуны увеличиваются до нескольких месяцев; в некоторых случаях — до полугода, предпоследний и последний Узлы разделяет почти год («Май — Июнь Двадцать Первого» — «Весна Двадцать Второго»). «Заковка путей» (Пятое Действие «Красного Колеса»), кроме прочего, означает «заковку» (замедление) исторического времени.
268
Ср. также открывающие собственно текст «Апреля…» два документа — тайные письма британских политиков (от 24 и 31 марта), в которых ставится крест на возможности отъезда императорской фамилии в Англию. Царская семья уже предана — брошена союзными родственниками на произвол судьбы (революции).
269
Батальон поднимает (не имея на то никаких полномочий от ИК, членом которого он — вопреки мнению сослуживцев — не является) чудаковатый и восторженный путаник вольноопределяющийся Фёдор Линде. Поднимает «по святому наитию, импульсом великой Интуиции, которая бывает выше самой стройной Логики», заворожив нескольких «рассудочных» батальонных комитетчиков и после долгих прений выцарапав решение выступать с перевесом в два голоса (50). Откровенно комический персонаж оказывается зачинщиком апрельского противостояния толп (и большевистской стрельбы, возвещающей приближение гражданской войны). Он проигрывает эту «битву», но делает политическую карьеру, которая страшно обрывается через четыре месяца, 25 августа: «На ЮЗФ (Юго-Западном фронте. — А. Н.) комиссар Ф. Линде убит разъярёнными солдатами», — пишет Солженицын в конспекте «Августа Семнадцатого». Напомню, что гибель Линде, пытавшегося разагитировать взбунтовавшихся солдат, в зловеще гротескном ключе изображена в пятой части «Доктора Живаго» и играет важную роль в дальнейшем сюжетном и смысловом движении романа Пастернака (там этот исторический персонаж носит фамилию Гинц).
270
Да и изначальный компромисс с самозваным Советом (впрочем, легитимность Думского комитета тоже куда как проблематична), порождением которого стала трясина двоевластия, погубившая как Россию, так и всех деятелей Февраля, был — при всех явленных на переговорах тактических ухищрениях — делом Милюкова.
271
То, что Милюкова изничтожают его ученики, прямо проговорено в еще «предкризисной» главе о мечтательно конструирующем «единое социалистическое правительство, от трудовиков до большевиков» Чернове, который недавно разъяснил в газетной статье, как «не надо пугаться чрезмерностей Ленина», а теперь выносит приговор «изгадившему» ноту министру иностранных дел: «А Милюкова, конечно, убрать, переместить» (67). Как и будет позднее предлагать Львов. Некоторое — смешанное с неприязнью — почтение к мэтру «культурные» социалисты совсем изжить пока еще не могут. Да и страх принять на себя всю ответственность за страну, тот страх, что будет терзать левые партии вплоть до октябрьского переворота, свое берет.
272
То, что в последней главе «Апреля…» мы застаем Воротынцева на том самом могилёвском Валу, где он беседовал с Нечволодовым, заметить нетрудно, тем более что автор сам напоминает о разговоре из «Октября Шестнадцатого»: «Вот тут, позади близко, за этими деревьями, впечатывал Нечволодов: революция уже пришла! ‹…› Тогда — не хотелось поверить» (186). Укажу еще одну значимую параллель к этому эпизоду. Нечволодов втолковывает Воротынцеву: «Россией по внешности управляет ещё как будто Государь. А на самом деле давно уже — левая саранча» (О-16: 68). В «Апреле…» профессиональный революционер Ободовский говорит жене: «Самое страшное, Нуся, даже не эти социалисты из Исполнительного Комитета. Они — саранча, да. Но за эти два месяца — и весь наш рабочий класс… И весь народ наш… показал себя тоже саранчой» (114).
273
Антагонизм Андозерской и Милюкова обозначен как сюжетно, так и ее прямыми аттестациями кадетского лидера. Воротынцев впервые видит Ольду у Шингарёва, куда пришел, чтобы познакомиться с ведущими кадетами. Гости Шингарёва ждут Милюкова, который в тот вечер так и не появляется. Как — тоже вопреки ожиданиям гостей Шингарёва — не начинается в тот вечер революция (О-16: 20–26). Андозерская буквально оттесняет Милюкова от Воротынцева. Как и Гучкова, для встречи с которым Воротынцев приехал в Петроград. Диалог о кадетском лидере («Скажи, а Милюков — действительно крупный историк? — Да какой там, — недовольно отвечала Ольда») близко соседствует с промелькнувшей мыслью Воротынцева: «…все эти счастливые (проведенные с Ольдой. — А. Н.) дни уже попали в новый месяц. А Гучкова — упустил» (О-16: 29). Не только Воротынцев, но и читатель воспринимает знаменитую думскую первоноябрьскую речь Милюкова о «глупости или измене» правительства (О-16: 65’), будучи подготовлен противомилюковскими суждениями Андозерской. Заключающее эту главу авторское утверждение: «Но если под основание трона вмесили глину измены, а молния не ударяет, — то трон уже и поплыл» (О-16: 65’) естественно соотносится с запомнившимися Воротынцеву словами Ольды: «Трон — только тронь» (О-16: 28). Заставляя нас увидеть первомайскую демонстрацию в Петрограде глазами как Милюкова, так и Андозерской (получаем мы неожиданно схожие картины), Солженицын еще раз напоминает о заочном споре этих персонажей, актуализирует «предсказывающие» эпизоды предшествующих «Апрелю…» Узлов.
274
Под проборматывание этой дамой стихов Волошина идет весь эпизод ожидания. При этом пламенная революционерка не понимает, сколь далека ее жажда возмездия от ужаса, владеющего поэтом. В финале «Ангела Мщенья» читаем: «Не сеятель сберет колючий колос сева. / Принявший меч погибнет от меча. / Кто раз испил хмельной отравы гнева, / Тот станет палачом иль жертвой палача» (Волошин М. Стихотворения и поэмы. СПб., 1995. С. 215). Нечто подобное и открывается Сусанне (женщине из, условно говоря, «кадетского» круга) на первомайской демонстрации. Отметим, что, как и петроградский, московский революционный праздник ассоциативно связан с вечером у Шингарёва.
275
Напомню, что швейцарские карнавалы вызывают пароксизм ярости у Ленина, верно видящего их «буржуазную» суть (М-17: 338).
276
В отличие от социалистов, Андозерская быстро понимает, каково истинное значение Ленина. «Всё было до того карикатурно-мерзко, что, когда вдруг появился Ленин и с балкона Кшесинской засвистел Соловьём-разбойником, этим свистом срывая фиговые листочки и с самого Исполнительного Комитета, — так хоть дохнуло чем-то грозно-настоящим: это, по крайней мере, не была карикатура, и не ползанье на брюхе. Это был — нескрываемо обнажённый кинжал. Ленин каждую мысль прямолинейно вёл на смерть России. ‹…›
Нет, карикатурен был не Ленин, а сам Исполнительный Комитет: против Ленина он предлагал бороться только словом» (39). Но в мире, где слова девальвированы и опошлены (всеми говорунами — от Родзянко до Керенского), а понятия о праве грубо нарушены, публицистика, как и юриспруденция, утрачивают всякий смысл. Что и демонстрируют Ленин и Козловский на шутовской репетиции судебного заседания по делу о захвате большевиками особняка Кшесинской. От изощренной игры словами и прежними юридическими нормами Козловский переходит к пародированию традиционной процедуры, а от него — к отрицанию самого суда как такового: «В разгар революции — кто думает о законности (известно кто — наслаждающийся ролью министра юстиции, грозного революционного прокурора, Керенский. — А. Н.), когда сама революция по существовавшим к тому моменту законам является беззаконием, караемым смертной казнью? Революция и закон — понятия несовместимые! Да ваш сегодняшний суд, восприявший свою власть от Временного правительства, тоже являлся судом беззаконным, если в духе законов царского времени! Да по тому старому закону и само Временное правительство подлежит виселице!!» (168). Вся главка оркестрована знаменитым ленинским смехом, почти непременной деталью многочисленных образчиков «ленинианы», с помощью которой происходило «очеловечивание» основателя коммунистической партии и советского государства. У Солженицына победительно-циничный смех Ленина — знак бесчеловечности и презрения к любым «смыслам». Противники (да и сторонники) Ленина изумляются нелогичности его писаний и выступлений, в которых соседствуют противоречащие друг другу тезисы. Изумляются легкости, с которой Ленин меняет лозунги. Но это не промахи, а «открытия» вождя большевиков, убежденного, что нахрап и апелляция к инстинктам сильнее способности суждения и памяти. «Как всегда: сила у того, кто нарушает общепринятые правила» (183). Даже ораторское мастерство и организаторские навыки тут менее значимы, — Троцкий, который захвату власти послужит словом и делом больше, чем Ленин, принужден будет довольствоваться ролью «второго» (пока и ее не отнимет у него — сперва во власти, потом и в переписанной надлежащим образом «истории» — настоящий ленинец, Сталин). Сила Ленина (тут ему и Троцкий уступает) — в той самой таранной однолинейности, в той самой оторванности от реальности, которая кажется смешной. Это понимает умная Андозерская, увидев и услышав «Соловья-разбойника» въяве: «разочаровывающе мелкая фигура, картавость, безцветный, крикливый голос, — но ведь и Марат был не краше, а мысли на самом деле уже тем сильны, что за пределами повседневного разума, что предлагают опрокидывать и самое незыблемое» (39). Пройдет время, и ленинская «прямота», властность, жестокость много кому покажутся залогом спасения от засилья слов и разлива народоправства, гарантией установления хоть какого-то порядка. Этот мощный соблазн в Гражданскую войну (да и позднее) станет вторым важнейшим оружием большевиков, вторым — после их абсолютной (нескрываемой) безжалостности, замешанной на презрении к человеку и человечности.
277
Ораторский поединок Керенского и Троцкого завершает рассказ Бабеля «Линия и цвет» (1923). Здесь Керенский, с которым повествователь знакомится в декабре 1916 года в уютной финляндской санатории, наделен символической чертой: он близорук и счастлив своей немочью. Когда повествователь советует Керенскому обзавестись очками, тот отвечает: «Мне не нужна ваша линия, низменная, как действительность ‹…› Зачем мне линии — когда у меня есть цвета? Весь мир для меня — гигантский театр, в котором я единственный зритель без бинокля. Оркестр играет вступление к третьему акту, сцена от меня далеко, как во сне, сердце мое раздувается от восторга, я вижу пурпурный бархат на Джульетте, лиловые шелка на Ромео и ни одной фальшивой бороды… И вы хотите ослепить меня очками за полтинник…» В следующий раз мы видим Керенского в июне 1917 года — Верховный главнокомандующий выступает на митинге в Народном доме. «Александр Фёдорович произнес речь о России — матери и жене. Толпа удушала его овчинами своих страстей. Что увидел в ощетинившихся овчинах он — единственный зритель без бинокля? Не знаю… Но вслед за ним на трибуну взошел Троцкий, скривил губы и сказал голосом, не оставляющим надежды:
— Товарищи и братья…» (Бабель И. Собр. соч.: В 4 т. М., 2006. Т. 1. С. 265, 266.
Понятно, что Бабель восторгается Троцким, а Солженицына организатор октябрьского переворота ужасает, но совпадение антитезы «Керенский — Троцкий», театрально-литературная трактовка Керенского и общность мотива слепоты, весьма значимого для «Красного Колеса», кажутся достойными внимания. Именно (и только) в обрисовке Керенского Солженицын внешне сходится с советскими мастерами искусств, разрабатывавшими революционную тему: от авторов забытых опусов до Бабеля, Зощенко («Бесславный конец», 1937) и Маяковского (3-я главка поэмы «Хорошо!», 1927). Последний случай особенно выразителен; важно, что «октябрьская поэма» входила в официальный канон, изучалась в школе и потому большая часть выросших при советской власти читателей Солженицына хотя бы смутно помнила (помнит) строки: «Царям / дворец / построил Растрелли. / Цари рождались, / жили, / старели. / Дворец / не думал / о вертлявом постреле, / не гадал, / что в кровати, / царицам вверенной, / раскинется / какой-то / присяжный поверенный. / От орлов, / от власти, / одеял / и кружевца / голова / присяжного поверенного / кружится». Сравним: «Где же забыться, если даже не на концерте? Минутами: о, где же забыться?.. В Зимнем дворце?..
Ах, как он полюбил Зимний дворец! Что-то есть покоряющее в его величественных залах, в его переходах, лестницах, в его отдельном стоянии между площадью и Невой. Александру Фёдоровичу постепенно стало казаться, будто ему и прежде в его петербургской жизни казалось, что его судьба — непременно пересечётся с этим дворцом, и с императором… И вот — сбывалось. С императором уже пересекалась (имеются в виду два апрельских посещения Керенским Царского села и его разговоры с находящимся под арестом царем, которого очарованный министр юстиции „называл не `Николай Александрович`, а `государь`, а раза два и `ваше величество`“ — как почти никто после отречения (12); ср. у Маяковского: „Их величество? / Знаю. / Ну да!.. / И руку жал. / Какая ерунда!“ — А. Н.), а во дворец, если он станет премьер-министром — а он станет, он, видимо, станет, князь Львов не фигура для революционной России, — перенесёт он в этот дворец свою резиденцию и переведёт правительство» (38). Дворцовый сюжет Керенского Солженицын пунктирно проводит в конспектах Узла Пятого («Июнь — Июль Семнадцатого»): «В<ременное>П<равительство> готовится переехать в Зимний дворец. (В Петрограде слух, что Керенский, разведясь с женой, намерен жениться на одной из царских дочерей.)» и Узла Шестого («Август Семнадцатого»): «(Теперь при каждой его (министра-председателя Керенского. — А. Н.) отлучке из Зимнего — над дворцом красный флаг опускается, как в былое время императорский)». Вспоминаются при чтении «Апреля…» и такие строки из «Хорошо!»: «Забывши / и классы / и партии, / идет / на дежурную речь. / Глаза / у него / бонапартьи / и цвета / защитного / френч. / Слова и слова. / Огнесловная лава. / Болтает / сорокой радостной. / Он сам / опьянен / своею славой / пьяней, / чем сорокоградусной» (Маяковский В. В. Полн. собр. соч.: В 12 т. М., 1940. Т. 6. С. 241, 245, 242).
Важна близость не фактов (материал поставляет история), но иронично-презрительных интонаций. Солженицын целенаправленно избегает «одноцветности» при обрисовке исторических персонажей, наделяя и самых неприятных ему политических деятелей теми или иными привлекательными чертами. Даже Милюков в «Апреле…» обнаруживает человеческое достоинство и масштабность государственного мышления. Даже о Троцком доктор Федонин думает: «В нём было-таки что-то обольстительное, притягательное, невольно хотелось согласиться с ним, поддаться ему. Да вот что: если б не эти его громовые отсекающие фразы, в другие минуты их разговора — это был вполне понятный, интеллигентный человек, притом незаурядно острый, очень интересно с ним говорить» (176). Даже Ленин в «Марте Семнадцатого» по-человечески мучается от головной боли и тоскует по Инессе Арманд. (Что уж говорить о Шляпникове? Несмотря на принадлежность к ленинской партии, обусловливающую его энергичную разрушительную деятельность, в «Красном Колесе» он предстает живым и ярким человеком, симпатии к которому автор не думает скрывать.) На таком фоне Керенский смотрится сознательно сделанным исключением. Кажется, ни один персонаж «Красного Колеса» не обрисован столь гротескно и столь безжалостно. (В какой-то мере этот подход применен к Стеклову, Чернову, Гиммеру, но все же не столь форсированно; да и места им уделено много меньше. Вероятно, не нашлось бы у Солженицына «утепляющих» тонов и для Сталина, если б были прописаны те Узлы, в которых будущий генсек выходит из тени. Тут полезно вспомнить «Этюд о великой жизни» и прочие сталинские главы романа «В круге первом».) Читая посвященные Керенскому главы «Красного Колеса», невольно вспоминаешь признание Алексея Турбина: «А из всех социалистов больше всех ненавижу Александра Федоровича Керенского» (Булгаков М. А. Собр. соч.: В 5 т. М., 1989. Т. 1. С. 246). Думается, Солженицына вело именно это чувство, присущее очень многим современникам любимого (наделенного автобиографическими чертами) булгаковского героя. Рисуя Керенского, Солженицын словно бы договаривал за автора «Белой гвардии» и его поколенческо-культурный круг. И тут его не могли смутить совпадения с советскими сочинителями.
278
Как тут не вспомнить вновь «Один день Ивана Денисовича», рассказ бригадира Тюрина о том, как, узнав о расстреле комполка и комиссара, что в 1930 году выкинули его, кулацкого сына, из армии, сказал он перекрестившись: «Всё ж Ты есть, Создатель, на небе. Долго терпишь, да больно бьёшь» (I, 63).
279
Еще одно свидетельство глубинной тяги революционеров к диктатуре. Как монархистка Андозерская угадывает в «смешном» Ленине носителя силы и признает, что он серьезнее ненавистных, оскорбительно смешных болтунов (хоть кадетов, хоть социалистов), так поджигатель порохового погреба (мирового пожара) отдает своеобразную дань уважения «ледяному» государственнику. (Разумеется, речь здесь идет больше о весьма влиятельном «мифе Победоносцева», чем о практической деятельности этого политика.) Железная квазигосударственность большевиков в пору Гражданской войны и позднее станет мощнейшим соблазном для многих людей «старого мира». Они, уязвленные революцией и последовавшим за ней народоправством, оглядываясь на французский опыт (термидор, консулат, империя Наполеона), не предполагали, что при установленном большевиками «порядке» продолжатся уничтожение России и культуры, попрание не только гражданских свобод, но и естественных человеческих прав, неуклонное истребление народа и растление (увы, часто успешное) тех, кто не был убит или брошен в лагерь. Эта доктрина, принимавшая различные формы как в метрополии, так и в эмиграции, не сдает позиций и по сей день. С ней, в частности, связаны энергичные попытки противопоставить «Красное Колесо» (сводимое к порицанию собственно Февральской революции, но не ее — по Солженицыну единственно закономерного — продолжения в Октябрьском перевороте, диктатуре большевиков, Гражданской войне и сталинском государстве) аккуратно отодвигаемому в сторону «Архипелагу…». Между тем два солженицынских эпоса связаны неразрывно (что касается, впрочем, и других сочинений их автора): Солженицын смог писать (и написать) «Красное Колесо» лишь после того, как написал «В круге первом», «Один день Ивана Денисовича», «Раковый корпус», «Архипелаг ГУЛАГ».
280
Толстой Л. Н. Собр. соч.: В 20 т. М., 1963. Т. 7. С. 329.
281
Заметим: при одновременной кристаллизации будущей — большевистской — власти.
282
Немногим позже узнав из письма брата, что «никто не хочет больше воевать!», потрясенный Юрик задумывается: «Что ж тогда будет с Россией, немцы придут? хоть и в Ростов? (Ну, не в Ростов, конечно.)» (174). В этой самоуспокаивающей мысленной (скобочной) поправке слышится многое. И детская наивность (я же только играл!). И естественная любовь к своему городу, которая вскоре будет подвергнута серьезным испытаниям. (Приехавший из Новочеркасска, а потому глядящий со стороны Виталий Кочармин говорит о Ростове: «…неприятный город. ‹…› Коммерческий. Крикливый. Души — нет. Все думают о наживе. ‹…› И с этой зажиточностью, развлекательностью — особенно вот сейчас придётся Ростову тяжело. Он — не готов» (174); Виталий угадывает будущее; в конспекте Узла Десятого («Февраль Восемнадцатого») читаем: «Богатый Ростов не жертвует добровольцам, не снабжает. Корнилов: Не буду защищать такой город».) Но и неуступчивость человека чести здесь тоже звучит.
283
Как не будет помещаться и неделю спустя, когда Ковынёв, переполненный впечатлениями (страшный шторм в Новочеркасске, кипение казачьего съезда, споры о земле, о старинных вольностях, об иногородних, об автономии), задумается о несовместимости возлюбленной и сестры (да и всей станичной жизни) и решит: «Надо валить — на общий разлом: тут — разладно сейчас, а вот на обратной дороге заеду к тебе в Тамбов» (146). Глава заканчивается телеграммой, оповещающей Ковынёва о том, что его брат «убит взбунтованными рабочими». Стихия подыгрывает Ковынёву в сюжете с Зиной («мотивировав» робость, переходящую в отступничество), революция (другая стихия) тут же жестоко ему мстит.
284
Сближение вновь сигнализирует: в романе Ковынёва намечалась любовная линия, что не может не вызвать ассоциаций с «Тихим Доном». Пропавший (ненаписанный? попавший в чужие руки и измененный?) роман Ковынёва словно двоится — то приближаясь к «Тихому Дону», то представая другой — неизвестной вовсе — книгой. Хотя Солженицын в конечном итоге пришел к выводу, что не Фёдор Крюков написал первоначальный текст казачьей эпопеи, обстоятельство это не отменяет возможности видеть в Ковынёве (персонаж не равен прототипу!) автора «Тихого Дона». Намеки и недоговорки «Красного Колеса» придают сюжету о происхождении донского романа тот аромат тайны, который ощущал в нем Солженицын.
285
Подробнее об этом говорится в главе II.
286
Кажется, Солженицын пожалел одного из любимейших своих героев — Арсения Благодарёва, не выведя его на сцену в «Апреле…». Последний раз мы видим Благодарёва разомлевшим под весенним солнышком 11 марта (М-17: 554).
287
Столько места не уделено ни одному персонажу. Керенскому и Ленину отдано по десять глав, Милюкову — восемь, Гучкову и Церетели — по шесть, Троцкому — пять. Имеются в виду, конечно, лишь главы, полностью посвященные этим лицам (в них, как правило, доминирует несобственно прямая речь персонажа, события даются в призме его восприятия и оценки). Разумеется, все исторические фигуры появляются и упоминаются не только в «своих» главах, но и в главах «чужих» (например, Ленин глазами Гиммера, Ленартовича, Керенского, Андозерской и др., Керенский в главах милюковских), общих (заседания ИК или Временного правительства, съезды, переговоры министров с вождями Совета), а также газетных и обзорных. Мир «Апреля…» крайне политизирован. Тем ощутимее в нем неожиданные, вновь и вновь сбивающие читательский настрой на «фактографию», весьма важные автору прорывы личных сюжетов (обычно представленных двумя-тремя далеко друг от друга отстоящими главами; наиболее прописана линия Вяземских (37, 96, 99, 170)). При такой композиции исключение, сделанное для Воротынцева, обретает особый смысловой вес.
288
Речь идет об обычных людях (как надеющихся на воскресение, так и уверенных в том, что человек умирает весь и навсегда). В ином положении либо святые отшельники, либо самоубийцы.
289
Рассуждать о том, встретятся ли когда-нибудь еще Воротынцев и Алина и как в таком случае будет развиваться их «тягомотина», так же бессмысленно, как решать вопрос о том, выйдет ли Онегин (или муж Татьяны) на Сенатскую площадь, станет ли Алёша Карамазов революционером и как сложится судьба рано осиротевшего Серёжи Каренина. Из дневника Солженицына известно, что писатель планировал протянуть эту сюжетную линию еще через несколько Узлов. Эти абсолютно бесспорные сведения относятся, однако, к определенной стадии разработки замысла, но не к тому завершенному художественному тексту, которым мы сейчас располагаем. Завершенность «повествованья в отмеренных сроках» вовсе не отменяет его сюжетной открытости, то есть возможности самых разных вариантов продолжении историй того или иного героя, каждый из которых гадателен и, по сути, пребывает вне поэтического мира «Красного Колеса». (Ровно так дело обстоит и с «Евгением Онегиным», «Братьями Карамазовыми», «Даром», продолжение которого Набоков серьезно обдумывал, но не написал, или любым иным сочинением с открытым финалом.) Последняя встреча читателя с Алиной происходит на могилёвском вокзале — никаких намеков на то, что с ней случится дальше, Солженицын в тексте не дает. За указание на то, что герои расстаются навсегда, можно принять реплику Алины: «А когда мы последний раз так ходили? Когда ты ехал в Петербург» (173). Могилёвская вокзальная сцена действительно отражает московскую (О-16: 14). Алина узнает начало своих бед (для нее несчастья начались именно с поездки Воротынцева в столицу и его романа с Ольдой) в их конце, что психологически оправдано. Нечто подобное чувствует и Воротынцев. Но это — ощущения героев, которые не знают и не могут знать будущего, а не авторский знак завершения семейного сюжета. Можно предположить, что, развертывая в «Апреле…» «тягомотину» столь подробно, Солженицын свел сюда тот сюжетный материал, который согласно изначальному замыслу должен был «распылиться» по нескольким Узлам. Эта гипотеза (если она верна) в известной мере объясняет генезис сложившегося текста, но не дает никакой информации о том, что произойдет с Алиной за пределами «Апреля…». Мы в самых общих чертах знаем, что потом случится с Воротынцевым и Ксеньей и Саней (о чем ниже), но не со всеми прочими вымышленными героями. Да и о будущем исторических персонажей Солженицын говорит редко. Сильные исключения — Ободовский (Пальчинский) и Гвоздев (О-16: 31, где в зачине сказано и о расстреле инженера чекистами, и о трех лагерных десятках активиста-рабочего) и Шингарёв, названный (впрочем, без пояснений) «закланцем нашей истории» (М-17: 3’). В конспекте «Узла Девятого» («Декабрь Семнадцатого») после цитаты из тюремного дневника Шингарёва дано горькое замечание в скобках: «Так и не поднялась в напуганном обществе кампания за освобождение Шингарёва, Кокошкина, Долгорукова: ревдемократы уклонились как чужие им; буржуазные круги и интеллигенция не решаются: мол, как бы не сделать арестованным хуже. И оставили на убийство».
290
Разумеется, указаний на «автобиографизм» образа Воротынцева в самом тексте нет. Существенно, однако, что к моменту публикации «Октября Шестнадцатого» (1982–1983) некоторые (пусть неточные, «мифологизированные») сведения о личной жизни писателя стали достоянием определенной части читателей, чего автор не мог не учитывать. Тем более Солженицын должен был предполагать, что рано или поздно появится его обстоятельное жизнеописание, которое, кроме прочего, сделает явной автобиографическую основу семейной драмы Воротынцева.
291
Уходящие воевать мальчики тоже теоретически предполагали, что могут больше никогда Москвы не увидеть. И тоже до конца в такой печальный итог не верили.
292
Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. <В 14 т.>. <Л.>, 1951. Т. 6. С. 220–221.
293
Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. <В 14 т.>. <Л.>, 1951. Т. 1. С. 275, 282, 278.
294
Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. <В 14 т.>. <Л.>, 1951. Т. 6. С. 109.
295
Тут уместно напомнить о том, что сакральность венценосца — любимая мысль Гоголя, что предполагавшееся в третьем томе поэмы воскресение Чичикова («мертвых душ», России) должно было свершиться монаршей волей. Излишне, кажется, еще раз объяснять, сколь чужда монархическая мифология автору «Красного Колеса».
296
Гоголь Н. В. Указ. соч. Т. 6. С. 247.
297
Любопытно, что сходный образ обнаруживается в, кажется, первом опыте художественной полемики с поэмой Гоголя — заключительной главе повести графа В. А. Соллогуба «Тарантас» (1845). Герой видит сон, в котором везущий его экипаж (символ устойчивости, традиции и консервативности) превращается в птицу и доставляет своего пассажира в чудесно изменившуюся Россию, где обретаются столь же чудесно изменившиеся его прежние недостойные знакомцы (двусмысленная игра с главной идеей гоголевской поэмы). Герой, воскликнув «Есть на земле счастье! ‹…› Есть цель жизни… и она заключается…», пробужден сильным ударом: «Кто бы мог подумать… тарантас опрокинулся. В самом деле, тарантас лежал во рву вверх колесами» (Соллогуб В. А. Повести и рассказы. М., 1988. С. 354).
298
Разумеется, в «Выбранных местах из переписки с друзьями» и эпистолярии Гоголя нетрудно отыскать призывы к самоограничению, неукоснительному исполнению всякой службы, терпению, равно как и порицания самохвальства. Только помнятся они много хуже, чем летящие строки о птице-тройке.
299
Здесь приходится выйти за пределы повествованья и подключить к интерпретации текста факты биографии Солженицына, но иначе прочесть этот эпизод (и все, что из него следует) просто невозможно. Само место действия — Александровский сад — отзывается в имени писателя. «Домашняя» уменьшительная форма этого имени повторяет отцовскую: в «Красном Колесе» Исаакий Лаженицын, как правило, именуется Саней.
300
Солженицын А. Публицистика: В 3 т. Ярославль, 1995. Т. 1. С. 538.
301
Этим Онегин радикально отличается от Печорина или Ставрогина.
302
Можно и должно сострадать тем, кто дорого (иные, как царская семья, Шингарёв, Кокошкин, — жизнью) заплатил за свои старые грехи. Можно и должно отличать Милюкова от Львова или Керенского. И даже Керенского — от Ленина. Но нельзя забыть, как старая власть и ее просвещенные оппоненты влекли Россию к революции. И как творцы Февраля явили свое бессилие тоже нельзя. Не зря Солженицын приводит речь Василия Маклакова на частном совещании думцев: «Если же оно (коалиционное правительство, сформированное после апрельского кризиса. — А. Н.) не спасёт России, а, подчиняясь Ленину, побегут назад солдаты (так и вышло. — А. Н.), — то, господа, какие б слова мы ни говорили, где б ни искали виновных, как бы каждый из нас ни оправдывал себя — (это — Милюкову), — потомство проклянёт наше время, нашу революцию и всех тех, кто к ней приобщился…» (172).
303
В этом отношении русские классики решительно расходятся с Вальтером Скоттом, в романах которого напряженное (иногда весьма жестокое) противостояние двух исторических сил, как правило, заканчивается примирением или компромиссом (и «награждением» главного героя — достойного джентльмена, чуждого фанатизму обеих противоборствующих сторон). Огрубленно очерченную здесь сюжетную схему Вальтер Скотт переносит из одной исторической ситуации в другую (иногда — не далеко отстоящую во времени), но никак не указывает на повторяемость коллизии — эпилоги его романов не предвещают будущих нешуточных бурь, они не воспринимаются как «прологи» тех сочинений шотландского чародея, что посвящены более поздним историческим катаклизмам. Отличие высших образцов русской исторической словесности от романистики Вальтера Скотта (незаслуженно выведенной в XX веке за пределы серьезной словесности) обусловлено, видимо, как несходством общих «формул» историй двух народов (и их ментальностей), так и тем, что на рубеже XVIII–XIX столетий (когда историзм стал важнейшей составляющей всей европейской культуры) социально-политические уклады (а следственно — насущные проблемы и перспективы) России и Англии рознились очень существенно.
304
«На улицах повторяется Февраль, но толпа не в восторге, а в ужасе»; «После ливня — ранняя темная, совсем не „белая“ ночь, и городской мятеж рассеялся» («Июнь — Июль Семнадцатого»); «24 октября — мрачный короткий петербургский день глубокой осени; по свинцовой реке уже и серые льдины; срываются малые снежинки»; «Город спал, не подозревая, что происходит, и проснулся при новой власти»; «Керенский, всю ночь не спавший, выпросил у американского посольства автомобиль с американским флажком и на нём устремился из города по гатчинскому шоссе: он поедет навстречу войскам! он сам их приведет сегодня же к вечеру! (Власть Февраля умирает без чести.)»; «А московские офицеры (их тысяч 30) откликаются плохо, к юнкерам присоединились тысячи три, остальные сидят по домам. (Да за кого теперь сражаться? за Керенского? его презирают; зовут защищать не Россию, а революцию?)» («Октябрь — Ноябрь Семнадцатого»).
305
Недоброжелателям личных линий «Красного Колеса», полагающим, что они отвлекают от «сути дела», стоит вспомнить «Архипелаг…» с его портретным изобилием, настойчивым стремлением показать неповторимые человеческие лица. Зэки ведь в большинстве своем отнюдь не исторические деятели, а вымышленные персонажи рисуются Солженицыным по тем же законам, что и имеющие прототипов.
306
Не касаемся тех случаев, когда работу прерывает смерть автора.
307
Возможно, когда-нибудь мы их узнаем. А не мы, так исследователи и читатели следующих поколений.
308
Потому и разрезает во Втором Узле Солженицын сплотку ленинских глав (О-16: 44, 47–50) двумя каменскими (О-16: 45, 46), где Плужников (будущий «легендарный возглавитель самоуправления восставших тамбовских крестьян» — «Замечания автора к Узлу Второму») втолковывает пришедшим к нему в гости отцу и сыну Благодарёвым, что нужна «своя крестьянская власть».
309
В 2004 году Солженицын пьесу сократил и внес в нее ряд исправлений; в этой редакции она опубликована в 19-м томе выходящего ныне тридцатитомного Собрания сочинений.
310
14 июня 1980 года, обдумывая, как поступить с «Пленниками» (и склоняясь к тому, чтобы сохранить пьесе жизнь), Солженицын записал в Дневнике: «Сцена с ядом — не просто личная: она метафизически указывает на неравенство нравственных весов». Стоит вспомнить о последнем появлении Ленина (с которого Рублёв, как и все коммунисты, «делал жизнь») в конспекте «На обрыве повествования».

Хотя со дня кончины Вадима Эразмовича Вацуро (30 ноября 1935 — 31 января 2000) прошло лишь восемь лет, в области осмысления и популяризации его наследия сделано совсем немало.
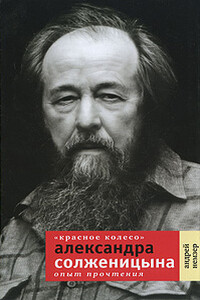
В книге известного критика и историка литературы, профессора кафедры словесности Государственного университета – Высшей школы экономики Андрея Немзера подробно анализируется и интерпретируется заветный труд Александра Солженицына – эпопея «Красное Колесо». Медленно читая все четыре Узла, обращая внимание на особенности поэтики каждого из них, автор стремится не упустить из виду целое завершенного и совершенного солженицынского эпоса. Пристальное внимание уделено композиции, сюжетостроению, системе символических лейтмотивов.

Книгу ординарного профессора Национального исследовательского университета – Высшей школы экономики (Факультет филологии) Андрея Немзера составили очерки истории русской словесности конца XVIII–XX вв. Как юношеские беседы Пушкина, Дельвига и Кюхельбекера сказались (или не сказались) в их зрелых свершениях? Кого подразумевал Гоголь под путешественником, похвалившим миргородские бублики? Что думал о легендарном прошлом Лермонтов? Над кем смеялся и чему радовался А. К. Толстой? Почему сегодня так много ставят Островского? Каково место Блока в истории русской поэзии? Почему и как Тынянов пришел к роману «Пушкин» и о чем повествует эта книга? Какие смыслы таятся в названии романа Солженицына «В круге первом»? Это далеко не полный перечень вопросов, на которые пытается ответить автор.

Книгу ординарного профессора Национального исследовательского университета – Высшей школы экономики (Факультет филологии) Андрея Немзера составили очерки истории русской словесности конца XVIII–XX вв. Как юношеские беседы Пушкина, Дельвига и Кюхельбекера сказались (или не сказались) в их зрелых свершениях? Кого подразумевал Гоголь под путешественником, похвалившим миргородские бублики? Что думал о легендарном прошлом Лермонтов? Над кем смеялся и чему радовался А. К. Толстой? Почему сегодня так много ставят Островского? Каково место Блока в истории русской поэзии? Почему и как Тынянов пришел к роману «Пушкин» и о чем повествует эта книга? Какие смыслы таятся в названии романа Солженицына «В круге первом»? Это далеко не полный перечень вопросов, на которые пытается ответить автор.

Новая книга Андрея Немзера – пятая из серии «Дневник читателя», четыре предыдущих тома которой были выпущены издательством «Время» в 2004–2007 годах. Субъективную литературную хронику 2007 года составили рецензии на наиболее приметные книги и журнальные публикации, полемические заметки, статьи о классиках-юбилярах, отчеты о премиальных сюжетах и книжных ярмарках. В завершающем разделе «Круглый год» собраны историко-литературные работы, посвященные поэзии А. К. Толстого и его роману «Князь Серебряный», поэтическому наследию С.
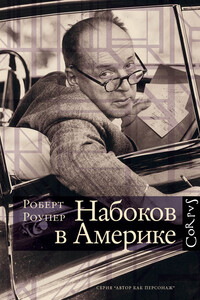
В книге подробно описан важный период жизни и творчества Владимира Набокова. В США он жил и работал с 1940 по 1958 год, преподавал в американских университетах, занимался энтомологией и, главное, стал писать по-английски. Именно здесь, после публикации романа “Лолита”, Набоков стал всемирно известным писателем. В книге приводится много документов, писем семьи Набоковых, отрывков из дневников, а также описывается жизнь в Соединенных Штатах в сороковые и пятидесятые годы и то, как она находила отражение в произведениях Владимира Набокова.

«Божественная комедия» Данте Алигьери — мистика или реальность? Можно ли по её тексту определить время и место действия, отождествить её персонажей с реальными людьми, определить, кто скрывается под именами Данте, Беатриче, Вергилий? Тщательный и придирчивый литературно-исторический анализ текста показывает, что это реально возможно. Сам поэт, желая, чтобы его бессмертное произведение было прочитано, оставил огромное количество указаний на это.
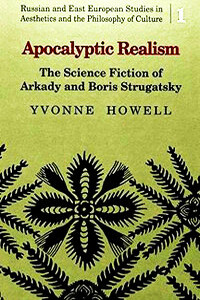
Данное исследование частично выполняет задачу восстановления баланса между значимостью творчества Стругацких для современной российской культуры и недополучением им литературоведческого внимания. Оно, впрочем, не предлагает общего анализа места произведений Стругацких в интернациональной научной фантастике. Это исследование скорее рассматривает творчество Стругацких в контексте их собственного литературного и культурного окружения.

Проблема фальсификации истории России XX в. многогранна, и к ней, по убеждению инициаторов и авторов сборника, самое непосредственное отношение имеет известная книга А. И. Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ». В сборнике представлены статьи и материалы, убедительно доказывающие, что «главная» книга Солженицына, признанная «самым влиятельным текстом» своего времени, на самом деле содержит огромное количество грубейших концептуальных и фактологических натяжек, способствовавших созданию крайне негативного образа нашей страны.

Особая творческая атмосфера – та черта, без которой невозможно представить удивительный город Одессу. Этот город оставляет свой неповторимый отпечаток и на тех, кто тут родился, и на тех, кто провёл здесь лишь пару месяцев, а оставил след на столетия. Одесского обаяния хватит на преодоление любых исторических превратностей. Перед вами, дорогой читатель, книга, рассказывающая удивительную историю о талантливых людях, попавших под влияние Одессы – этой «Жемчужины-у-Моря». Среди этих счастливчиков Пушкин и Гоголь, Бунин и Бабель, Корней Чуковский – разные и невероятно талантливые писатели дышали морским воздухом, любили, творили.

«Во втором послевоенном времени я познакомился с молодой женщиной◦– Ольгой Всеволодовной Ивинской… Она и есть Лара из моего произведения, которое я именно в то время начал писать… Она◦– олицетворение жизнерадостности и самопожертвования. По ней незаметно, что она в жизни перенесла… Она посвящена в мою духовную жизнь и во все мои писательские дела…»Из переписки Б. Пастернака, 1958««Облагораживающая беззаботность, женская опрометчивость, легкость»,»◦– так писал Пастернак о своей любимой героине романа «Доктор Живаго».

В сборник вошли восемь рассказов современных китайских писателей и восемь — российских. Тема жизни после смерти раскрывается авторами в первую очередь не как переход в мир иной или рассуждения о бессмертии, а как «развернутая метафора обыденной жизни, когда тот или иной роковой поступок или бездействие приводит к смерти — духовной ли, душевной, но частичной смерти. И чем пристальней вглядываешься в мир, который открывают разные по мировоззрению, стилистике, эстетическим пристрастиям произведения, тем больше проступает очевидность переклички, сопряжения двух таких различных культур» (Ирина Барметова)
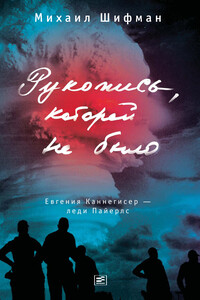
Неизвестные подробности о молодом Ландау, о предвоенной Европе, о том, как начиналась атомная бомба, о будничной жизни в Лос-Аламосе, о великих физиках XX века – все это читатель найдет в «Рукописи». Душа и сердце «джаз-банда» Ландау, Евгения Каннегисер (1908–1986) – Женя в 1931 году вышла замуж за немецкого физика Рудольфа Пайерлса (1907–1995), которому была суждена особая роль в мировой истории. Именно Пайерлс и Отто Фриш написали и отправили Черчиллю в марте 1940 года знаменитый Меморандум о возможности супербомбы, который и запустил англо-американскую атомную программу.
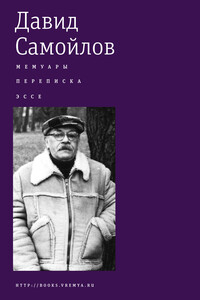
Книга «Давид Самойлов. Мемуары. Переписка. Эссе» продолжает серию изданных «Временем» книг выдающегося русского поэта и мыслителя, 100-летие со дня рождения которого отмечается в 2020 году («Поденные записи» в двух томах, «Памятные записки», «Книга о русской рифме», «Поэмы», «Мне выпало всё», «Счастье ремесла», «Из детства»). Как отмечает во вступительной статье Андрей Немзер, «глубокая внутренняя сосредоточенность истинного поэта не мешает его открытости миру, но прямо ее подразумевает». Самойлов находился в постоянном диалоге с современниками.

Мама любит дочку, дочка – маму. Но почему эта любовь так похожа на военные действия? Почему к дочерней любви часто примешивается раздражение, а материнская любовь, способная на подвиги в форс-мажорных обстоятельствах, бывает невыносима в обычной жизни? Авторы рассказов – известные писатели, художники, психологи – на время утратили свою именитость, заслуги и социальные роли. Здесь они просто дочери и матери. Такие же обиженные, любящие и тоскующие, как все мы.