Противоречия - [29]
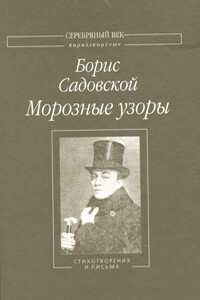
Борис Садовской (1881-1952) — заметная фигура в истории литературы Серебряного века. До революции у него вышло 12 книг — поэзии, прозы, критических и полемических статей, исследовательских работ о русских поэтах. После 20-х гг. писательская судьба покрыта завесой. От расправы его уберегло забвение: никто не подозревал, что поэт жив.Настоящее издание включает в себя более 400 стихотворения, публикуются несобранные и неизданные стихи из частных архивов и дореволюционной периодики. Большой интерес представляют страницы биографии Садовского, впервые воссозданные на материале архива О.Г Шереметевой.В электронной версии дополнительно присутствуют стихотворения по непонятным причинам не вошедшие в данное бумажное издание.

Николай Николаевич Минаев (1895–1967) – артист балета, политический преступник, виртуозный лирический поэт – за всю жизнь увидел напечатанными немногим более пятидесяти собственных стихотворений, что составляет меньше пяти процентов от чудом сохранившегося в архиве корпуса его текстов. Настоящая книга представляет читателю практически полный свод его лирики, снабженный подробными комментариями, где впервые – после десятилетий забвения – реконструируются эпизоды биографии самого Минаева и лиц из его ближайшего литературного окружения.Общая редакция, составление, подготовка текста, биографический очерк и комментарии: А.
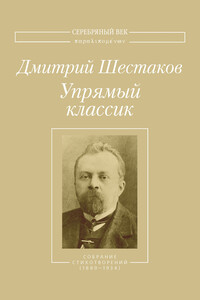
Дмитрий Петрович Шестаков (1869–1937) при жизни был известен как филолог-классик, переводчик и критик, хотя его первые поэтические опыты одобрил А. А. Фет. В книге с возможной полнотой собрано его оригинальное поэтическое наследие, включая наиболее значительную часть – стихотворения 1925–1934 гг., опубликованные лишь через много десятилетий после смерти автора. В основу издания легли материалы из РГБ и РГАЛИ. Около 200 стихотворений печатаются впервые.Составление и послесловие В. Э. Молодякова.

В настоящее издание вошли все стихотворения Сигизмунда Доминиковича Кржижановского (1886–1950), хранящиеся в РГАЛИ. Несмотря на несовершенство некоторых произведений, они представляют самостоятельный интерес для читателя. Почти каждое содержит темы и образы, позже развернувшиеся в зрелых прозаических произведениях. К тому же на материале поэзии Кржижановского виден и его основной приём совмещения разнообразных, порой далековатых смыслов культуры. Перед нами не только первые попытки движения в литературе, но и свидетельства серьёзного духовного пути, пройденного автором в начальный, киевский период творчества.