Пробел - [18]
Я стоял в некоем неопределенном месте, бесцветном, без плотности. Невыразимое чувство, из тех, что посещают в сумеречных состояниях, подсказывало, что некогда это место было моей комнатой; что одновременно и трансцендентное, и имманентное отсутствие, над коим, как на краю пропасти, открывалось мое желание, некогда было стеной, материальной реальностью, которую уничтожила небывалая белизна. Об этой отправной точке своего внутреннего, без шума или движения, приключения я вспоминал как о каком-то высшем мгновении, когда время начало удерживаться в себе и прекратило течь. Глаза мои оставались открыты — и совершенно напрасно, поскольку различие между внешним и внутренним потеряло всякое значение. Тело, наконец уловленное в своей центральной точке, сбросило балласт формы и массы и стремилось изгладиться в пробеле — как мало-помалу приглушаемый эрозией отпечаток льнет к своей исходной подложке. Но подложкой здесь была пустота. И плоть оказывалась не у дел.
Но тут навязал себя и ни с того ни с сего начал править образ. Я вновь обрел зрение, которого, как мне казалось, лишился, — все для того, чтобы рассмотреть очерченные в совершенстве, как предмету меня перед глазами и под рукой, столь же конкретные, сколь и необычные солнечные часы, украшенные у основания нравоучительной надписью. И, оставленный словами, сказал себе, будто действительно учился говорить: пора.
И засим смежил веки. Я проник в застенок — но не отринув волевым актом назойливую очевидность предначертанного часа и тем паче не в силу утомления перед лицом мира и вещей, а в своего рода созревании души, согласной на свою темноту, на отступление в себя, на окончательный отказ от любого объекта и всякого света. Образ солнечных часов таким образом стерся. Поскольку вдали от всякой чувственной реальности во мне все еще мешкали латинские слова, все что мне оставалось, — воспоминание об окончательном суждении о природе времени, окутанное смутным ощущением, что суждение это не ново или по меньшей мере не принесло мне никакого нового знания и у меня, следовательно, есть все основания остаться с закрытыми глазами, ибо я победил неведение.
Впредь я продвигался в тени. Собственно говоря, это не было перемещением. Скорее уж сокровенным расширением беспредметного роста. Форма тела ускользала от моего попечения; я утратил чувство позы и вызванного ею физического напряжения. Меня не влекло небытие — но во мне бродила тень, захватывала меня, поглощала. Я колыхался без направления, как те во всех отношениях низшие растения, что живут на дне прудов и через ткани которых проходит дух вод. Свиваясь, развеваясь, бесцельно блуждая в покое счастливого безвременья, я, как в иле, вяз в нежном оцепенении отсутствия, словно был неким маточным телом, скорее привидевшимся, нежели живым, темнее любой плоти, наличным не столько для себя, сколько для ночи. И мое неподвижное и совершенное счастье пришло ко мне лишь потому, что ночь не была ни внешней, ни чуждой — она просто несла меня в себе, поскольку ее в себе нес я.
Если что-то с тех пор и пребывало в движении, неустанно с собой сочетаясь, с собой, себя не ища, встречаясь, — то отнюдь не я, то была тень, из которой сложены душа и ночь — из которой в ночи сложена душа. Если подчас принималась, не переставая быть тишиною, говорить тишина, то отнюдь не моим, утраченным еще до того, как я родился, голосом, а через внутренний шум проходящей между словами, как сквозь время, ночи; откуда же тогда текла речь? я подчас говорил: из сердца, подчас: из разума или души, а иногда даже: из плоти, принимая всякий раз одно слово за другое, но на самом деле то была ночь — вскормившая в собственном лоне все смыслы. И если что-то в конце концов оказалось написано, если белая страница набухла в ужасе смысла или в благодати разрастаньем глифов и графем, знаки вполне могла начертать моя рука, а слова, в темноте своих истоков, отыскать моя память, и уж не знаю, какая еще способность собрала их вместе и провела через перипетии текста. Быть может, то был я. Но это был отнюдь не я. У того, кому казалось, что это он, не осталось иллюзий: он просто вернул ночи то, что от нее получил.

В новой книге известного режиссера Игоря Талалаевского три невероятные женщины "времен минувших" – Лу Андреас-Саломе, Нина Петровская, Лиля Брик – переворачивают наши представления о границах дозволенного. Страсть и бунт взыскующего женского эго! Как духи спиритического сеанса три фурии восстают в дневниках и письмах, мемуарах современников, вовлекая нас в извечную борьбу Эроса и Танатоса. Среди героев романов – Ницше, Рильке, Фрейд, Бальмонт, Белый, Брюсов, Ходасевич, Маяковский, Шкловский, Арагон и множество других знаковых фигур XIX–XX веков, волею судеб попавших в сети их магического влияния.

"... У меня есть собака, а значит у меня есть кусочек души. И когда мне бывает грустно, а знаешь ли ты, что значит собака, когда тебе грустно? Так вот, когда мне бывает грустно я говорю ей :' Собака, а хочешь я буду твоей собакой?" ..." Много-много лет назад я где-то прочла этот перевод чьего то стихотворения и запомнила его на всю жизнь. Так вышло, что это стало девизом моей жизни...

1995-й, Гавайи. Отправившись с родителями кататься на яхте, семилетний Ноа Флорес падает за борт. Когда поверхность воды вспенивается от акульих плавников, все замирают от ужаса — малыш обречен. Но происходит чудо — одна из акул, осторожно держа Ноа в пасти, доставляет его к борту судна. Эта история становится семейной легендой. Семья Ноа, пострадавшая, как и многие жители островов, от краха сахарно-тростниковой промышленности, сочла странное происшествие знаком благосклонности гавайских богов. А позже, когда у мальчика проявились особые способности, родные окончательно в этом уверились.

Самобытный, ироничный и до слез смешной сборник рассказывает истории из жизни самой обычной героини наших дней. Робкая и смышленая Танюша, юная и наивная Танечка, взрослая, но все еще познающая действительность Татьяна и непосредственная, любопытная Таня попадают в комичные переделки. Они успешно выпутываются из неурядиц и казусов (иногда – с большим трудом), пробуют новое и совсем не боятся быть «ненормальными». Мир – такой непостоянный, и все в нем меняется стремительно, но Таня уверена в одном: быть смешной – не стыдно.

В сборнике представлены семь рассказов популярной корейской писательницы Чхве Ынён, лауреата премии молодых писателей Кореи. Эти небольшие и очень жизненные истории, словно случайно услышанная где-то, но давно забытая песня, погрузят читателя в атмосферу воспоминаний и размышлений. «Хорошо, что мы живем в мире с гравитацией и силой трения. Мы можем пойти, остановиться, постоять и снова пойти. И пусть вечно это продолжаться не может, но, наверное, так даже лучше. Так жить лучше», – говорит нам со страниц рассказа Чхве Ынён, предлагая посмотреть на жизнь и проникнуться ее ходом, задуматься над тем, на что мы редко обращаем внимание, – над движением души и переживаниями событий.
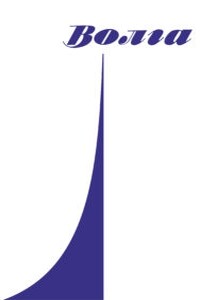
Роман о небольшом издательстве. О его редакторах. Об авторах, молодых начинающих, жаждущих напечататься, и маститых, самодовольных, избалованных. О главном редакторе, воюющем с блатным графоманом. О противоречивом писательско-издательском мире. Где, казалось, на безобидный характер всех отношений, случаются трагедии… Журнал «Волга» (2021 год)