Пробел - [14]
Прежде я полагал, что моему желанию вполне достанет форм. Теперь, когда формы оказались упразднены, оно стало обширнее, чем когда-либо, более одиноким, и я открыл, что оно никогда не имело в виду ничего другого, кроме отсутствия, с беспредельной неутолимостью связующего его с самим собой. Как бы я иначе не впал в ужас и бессилие? Коли я оставался здесь, коли держался, объятый пустой белизной, на ногах, желание мое должно было быть отнюдь не позывом к обладанию. Моя все более чуткая к себе неподвижность учила: любовь непременно подразумевает превращение в добычу, принимаешь только то, что так или иначе представляет и возвещает бесконечную смерть.
Подобные идеи пролили во мне свой свет позже, по мере того как я вновь обрел смысл слов и окончательную причину письменно их фиксировать. Возможно, поговорю об этом в другой раз. Сейчас же, дабы с этим покончить, хочу лишний раз сказать, что сталось с миром, где я пребывал, пока по ту сторону всякой выразимой тревоги приближался к невыразимой любви, самой ужасной из всех, — к любви к пустоте, корню любой возможной любви.
Одна за другой оказывались затронуты занимавшие пространство и определявшие мое пребывание здесь вещи. На поверхности проступало крохотное белое пятнышко. И мало-помалу расширялось; вроде бы наносное, развивалось в глубину этаким кариесом непорочности. Казалось, будто материя, не оставляя следа, переваривает самое себя. Мир — или то, что в его непосредственной, согревающей близости я испокон века таковым считал — очищался от своей осязаемой реальности. Самым странным было то, что вещи — вполне заурядные вещи, которых я держался (и которые в некотором роде до тех пор поддерживали меня), — как только их касалась белизна, переставали функционировать как таковые (обиходные, практические или эстетические) и не представляли больше ни малейшего интереса. Я с безграничным безразличием созерцал, как они растворяются, сами по себе распадаются, мало-помалу отделяясь от всех мыслимых функций и опустошаясь в пустоту. Или, скорее, то, что я наблюдал, стоя в неподвижности, было уже не вещами, заботу о которых я утратил, а самой пустотой в белизне отсутствия. И созерцание это не пробуждало во мне ни малейшей мысли. Отказавшись даже от самых элементарных попыток объяснения, я утратил вкус к образам и смысл слов — словно моим духом овладела пустота вне меня, чьим пассивным свидетелем я оставался, и, созерцая среди прочего мандалу безраздельно и бесформенно царящего здесь пробела, я созерцал свой пустующий и невыразительный внутренний мир, так что пограничье между объективным и субъективным постепенно сходило на нет. Лишь тело тяжеловесно и прозаически навязывало мне свою вечную обособленность.
Мне наверняка уже снилась подобная ситуация. Я вроде бы потом об этом вспомнил, восстановил если не в точности привидевшиеся во сне образы, то, по крайней мере, общее впечатление вескости и вертикальности, как у одиноко стоящего тела, присутствующего, но не действующего при обрушении всей житейской декорации: сны бессилия, но и упорства, когда не ухватиться за вещи; сны тела ни о чем и ни о ком — без зрения, без соприкосновения, в тишине, что сводит на нет даже ощущение дыхания и прочие плотские шумы.
Впрочем, вполне может статься, что подобные сны исподволь, неосознанно подготовили меня без колебаний пережить то, что я тогда переживал, и более того — извлечь отсюда своего рода духовную пищу, как из опыта за гранью любого опыта. В этом смысле могу сказать, что сон был для меня глубоким и незаменимым ученичеством в любви, — если верно, что любить означает прежде всего прильнуть к темноте.
Между тем в этих недвижных брачеваниях с тенью, модель для коих много раз приносил мне сон, тело оказывалось препятствием, оставаясь тем не менее в лучшие свои моменты очагом их пылкости. Смерть, скажем, призывала плоть, и плоть желала сего опьянения. Но ее отталкивало движение к смерти — движение, которое неминуемо вмешивается в данном случае, как и всякий раз, когда речь заходит о том, чтобы принять решение и меры по его реализации. Умирание представало тогда работой тела над собой, с непременной игрой действий и поз, выражений и ритуалов. Оно, вплоть до последней судороги, оказывалось разгулом жизни. Ну а плоть — такою, по крайней мере, ее раскрывал сон — стремилась совсем к иному, нежели барочная неразбериха, желала покоя, ухода от самое себя и отсутствия, отказывалась от борьбы — от той агонии, которая мобилизует и активизирует все защитные силы организма. Единственное, что ее очаровывало, — вышедший из самого темного ее желания образ смертельного погружения, что разворачивался без малейшего сопротивления, пока сама она, плоть, отдавалась, поддавалась, сочеталась в своей наконец-то признанной, принятой, привеченной пустоте — без блеска и шума, без движения и усилия, в точности так, словно бесконечные воды, ключевая стихия, из коей она была сотворена в своем преходящем цветении, кротко поднялись над ординаром, дабы утолить, затопляя ее и растворяя, жажду небытия собственного порождения: плоти, стекающей в отсутствие как в самое себя, погружаясь без движения, пропадая без удаления. Ибо в своей ущербной нежности плоть хотела, извечно жаждала и ждала развязки натяжений, стирания знаков, эрозии без противления, податливости и увязания сокровенных тканей в иле доисторического оцепенения и, как последнего конца, любовного причащения к собственному отсутствию: чаяла исчезнуть в невесомом и неподвижном падении в себя — скорее состоянии, нежели испытании или изменении, сулящем вновь водвориться в изначальной пустоте как в бесконечной колыбели бессознательного и безосновного. Собраться, стало быть, впустую в самой себе — вот на что было направлено для плоти удерживавшее ее до сих пор ожидание. К этому в своей полноте и сводилась жизнь.

1995-й, Гавайи. Отправившись с родителями кататься на яхте, семилетний Ноа Флорес падает за борт. Когда поверхность воды вспенивается от акульих плавников, все замирают от ужаса — малыш обречен. Но происходит чудо — одна из акул, осторожно держа Ноа в пасти, доставляет его к борту судна. Эта история становится семейной легендой. Семья Ноа, пострадавшая, как и многие жители островов, от краха сахарно-тростниковой промышленности, сочла странное происшествие знаком благосклонности гавайских богов. А позже, когда у мальчика проявились особые способности, родные окончательно в этом уверились.

Самобытный, ироничный и до слез смешной сборник рассказывает истории из жизни самой обычной героини наших дней. Робкая и смышленая Танюша, юная и наивная Танечка, взрослая, но все еще познающая действительность Татьяна и непосредственная, любопытная Таня попадают в комичные переделки. Они успешно выпутываются из неурядиц и казусов (иногда – с большим трудом), пробуют новое и совсем не боятся быть «ненормальными». Мир – такой непостоянный, и все в нем меняется стремительно, но Таня уверена в одном: быть смешной – не стыдно.

В сборнике представлены семь рассказов популярной корейской писательницы Чхве Ынён, лауреата премии молодых писателей Кореи. Эти небольшие и очень жизненные истории, словно случайно услышанная где-то, но давно забытая песня, погрузят читателя в атмосферу воспоминаний и размышлений. «Хорошо, что мы живем в мире с гравитацией и силой трения. Мы можем пойти, остановиться, постоять и снова пойти. И пусть вечно это продолжаться не может, но, наверное, так даже лучше. Так жить лучше», – говорит нам со страниц рассказа Чхве Ынён, предлагая посмотреть на жизнь и проникнуться ее ходом, задуматься над тем, на что мы редко обращаем внимание, – над движением души и переживаниями событий.

Этот вдохновляющий и остроумный бестселлер New York Times от знаменитой вязальщицы и писательницы Клары Паркс приглашает читателя в яркие и незабываемые путешествия по всему миру. И не налегке, а со спицами в руках и с любовью к пряже в сердце! 17 невероятных маршрутов, начиная от фьордов Исландии и заканчивая крохотным магазинчиком пряжи в 13-м округе Парижа. Все это мы увидим глазами женщины, умудренной опытом и невероятно стильной, беззаботной и любознательной, наделенной редким чувством юмора и проницательным взглядом, умеющей подмечать самые характерные черты людей, событий и мест. Известная не только своими литературными трудами, но и выступлениями по телевидению, Клара не просто рассказывает нам личную историю, но и позволяет погрузиться в увлекательный мир вязания, знакомит с американским и мировым вязальным сообществом, приглашает на самые знаковые мероприятия, раскрывает секреты производства пряжи и тайные способы добычи вязальных узоров.
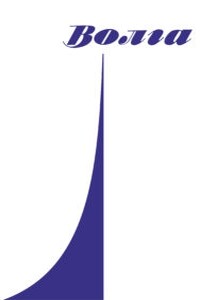
Роман о небольшом издательстве. О его редакторах. Об авторах, молодых начинающих, жаждущих напечататься, и маститых, самодовольных, избалованных. О главном редакторе, воюющем с блатным графоманом. О противоречивом писательско-издательском мире. Где, казалось, на безобидный характер всех отношений, случаются трагедии… Журнал «Волга» (2021 год)

Что случится, если в нашей реальности пропишутся персонажи русских народных сказок и мирового фольклора? Да не просто поселятся тут, а займут кресла мэра города и начальника местных стражей порядка, место иностранного советника по реформам, депутатские кабинеты и прочие почтенно-высокие должности. А реальность-то на дворе – то ли подзадержавшиеся лихие 90-е, то ли вовсе русское вневременье с вечной нашей тягой к бунту. Словом, будут лихие приключения.