Пробел - [13]
Но в настоящем — в том едва исторгнутом вне породившей его тревоги, еще робком и хрупком настоящем — меня восстанавливал своеособый опыт. Говорю не об опыте вещей, подточенных в своем основании и признавших в сводившей их на нет пустоте свою тщету, а о внутреннем опыте, который я мало-помалу осознавал в своей заброшенности вне мира, продолжая стоять на совершенно плоском берегу отсутствия.
Нужно понять предельную отрешенность моей тогдашней жизни — отрешенность обездвиженной, оцепенелой мысли, как и отрешенность уединившихся в самих себе чувств, с каждым днем все более обделенных побуждениями внешнего мира. Цвета выцветали, съеживались объемы, рушились формы. Наступила эпоха скудости и ограничения. Стих шум. Пространство выбелело настолько, что вкусы и запахи становились просто немыслимы. Даже ощущения, проистекающие из ничтожных ужимок организма, когда тот бросается навстречу жизни, оказывались искажены — настолько застывшее над пустотой тело обязывало меня держаться своих сокровенных устоев ради одного: не обрушиться. И я избегал касаться вещей, очевидно таких опасливых и уязвимых, словно их хрупкость грозила при соприкосновении перелиться в меня.
И тянулось и тянулось время. Все это было делом не часов или дней, а, как в сказках о заснувших, бесконечного, так сказать, растяжения однородной, тождественной самой себе длительности, в недрах коей ни одно мгновение не отличалось от любого другого.
Бесконечной длительности, единственным будущим в которой могла быть только все более и более пространная праздность, отвечала моя все более самодостаточная, чуждая любым планам безучастность, все более мирная и весомая, по мере того как во мне ослабляла хватку тревога. То было как бы безграничное вызревание сердца, постоянно впитывающего через созерцание пустоту и белизну. Я не формулировал теорий. Не пытался осмыслить свой опыт в свете той или иной системы. Я просто-напросто совпадал с состоянием, которое постоянно поддерживала во мне медленная и неотразимая аннигиляция моего универсума. Не пытаясь от нее ускользнуть, я проживал ситуацию, в которую попал. И то, что поначалу мнилось непереносимым, теперь представало необходимой работой, затрагивавшей не только предметы вокруг, но и мою духовную жизнь в целом. Как я некогда почувствовал перед листом белой бумаги, нужно было безоговорочно принять фундаментальную пустотность сущего и, сверх всего прочего, пустоту собственного существа. Я должен был вобрать в себя, вплоть до полного отождествления, ту нулевую белизну, на опушке которой я так и продолжал стоять, молча — глубинно разлученный с теми немногими предметами, что все еще упорствовали быть. Во мне, в неподвижности чувств и замирании всякой интеллектуальной деятельности, поднималось бесконечное согласие. Я готов был пойти на риск, всем своим существом сказать да тому, что его радикально отрицало. И впредь только этим риском и был.
Не говорю ли я сегодня об этом как о рождении и раскрытии во мне величайшей любви? К этому меня склоняет все, что я знаю о своем опыте. В самом деле, поскольку оно ничего не ждало, ожидание никогда не было во мне таким живым, таким насущным для моего сердца — настолько, что именно ожидание, несомненно, удерживало меня на ногах при сем конце света; и, поскольку лежащее на его дне желание не имело объекта, я еще не ведал подобной горячности. Как и любой, до тех пор я проводил жизнь в погоне за формами, подстерегал их, подстрекал, измышлял, коли их не хватало, присваивал с тем более пылкой жадностью, чем ближе она была к неподвижности. Но теперь любимицы-формы признавали свое небытие; возвращаясь к самим себе, отходили пустоте. И, в зиянии любви, что любит не за что-то, я принимал эту пустотность. Не шевелясь, приходил к ней, а она приближалась ко мне. Я приветствовал ее без единого слова, без мысли, без действия, самим фактом своего присутствия. За вычетом взгляда, который остановился на пробеле, на расстоянии от любой вещи, мои чувства были словно закупорены и ничего более не сообщали. То, чем я себя время от времени прежде считал, моя обособленность и одиночество — из коих я извлекал определенное тщеславие, — представали по отношению к переживаемому сейчас всего лишь милой юношеской забавой. Ибо отныне я был заодно с необратимостью отсутствия. И с кем бы или с чем бы такое ни случилось, меня это уже не касалось. Я сошел с дороги — и дороги больше не было; закрыл двери и окна — и не было больше ни окон, ни дверей.
В постоянном и радикальном самосредоточении всего моего существа я открывал, что любовь к другому — будь то личность или предмет — всего лишь неуклюжая и досадная метафора любви к пустоте, где только и может исполниться твое предначертание: в отречении, в отказе от самости, в абсолютном стирании своего присутствия. Того забвения собственных пределов, коего тщетно взыскует в грезах о могуществе и обладании влюбленный, как я теперь знал, насмотревшись на белизну, можно достичь, лишь с полным смирением подчинившись закону отсутствия. Бытие было всего-то фантазмом, существование — бредом. Любовь не имела никакого отношения к жизни. Если она и была, то разве что как любовь к смертному и, по ту сторону всего смертного, к пустоте как лицу небытия — отсутствующему лицу на донышке единственно необходимой красоты.
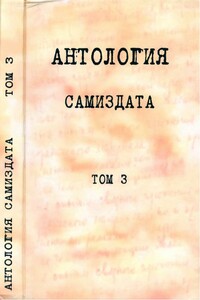
«Антология самиздата» открывает перед читателями ту часть нашего прошлого, которая никогда не была достоянием официальной истории. Тем не менее, в среде неофициальной культуры, порождением которой был Самиздат, выкристаллизовались идеи, оказавшие колоссальное влияние на ход истории, прежде всего, советской и постсоветской. Молодому поколению почти не известно происхождение современных идеологий и современной политической системы России. «Антология самиздата» позволяет в значительной мере заполнить этот пробел. В «Антологии» собраны наиболее представительные произведения, ходившие в Самиздате в 50 — 80-е годы, повлиявшие на умонастроения советской интеллигенции.

В новой книге известного режиссера Игоря Талалаевского три невероятные женщины "времен минувших" – Лу Андреас-Саломе, Нина Петровская, Лиля Брик – переворачивают наши представления о границах дозволенного. Страсть и бунт взыскующего женского эго! Как духи спиритического сеанса три фурии восстают в дневниках и письмах, мемуарах современников, вовлекая нас в извечную борьбу Эроса и Танатоса. Среди героев романов – Ницше, Рильке, Фрейд, Бальмонт, Белый, Брюсов, Ходасевич, Маяковский, Шкловский, Арагон и множество других знаковых фигур XIX–XX веков, волею судеб попавших в сети их магического влияния.

"... У меня есть собака, а значит у меня есть кусочек души. И когда мне бывает грустно, а знаешь ли ты, что значит собака, когда тебе грустно? Так вот, когда мне бывает грустно я говорю ей :' Собака, а хочешь я буду твоей собакой?" ..." Много-много лет назад я где-то прочла этот перевод чьего то стихотворения и запомнила его на всю жизнь. Так вышло, что это стало девизом моей жизни...

1995-й, Гавайи. Отправившись с родителями кататься на яхте, семилетний Ноа Флорес падает за борт. Когда поверхность воды вспенивается от акульих плавников, все замирают от ужаса — малыш обречен. Но происходит чудо — одна из акул, осторожно держа Ноа в пасти, доставляет его к борту судна. Эта история становится семейной легендой. Семья Ноа, пострадавшая, как и многие жители островов, от краха сахарно-тростниковой промышленности, сочла странное происшествие знаком благосклонности гавайских богов. А позже, когда у мальчика проявились особые способности, родные окончательно в этом уверились.

Самобытный, ироничный и до слез смешной сборник рассказывает истории из жизни самой обычной героини наших дней. Робкая и смышленая Танюша, юная и наивная Танечка, взрослая, но все еще познающая действительность Татьяна и непосредственная, любопытная Таня попадают в комичные переделки. Они успешно выпутываются из неурядиц и казусов (иногда – с большим трудом), пробуют новое и совсем не боятся быть «ненормальными». Мир – такой непостоянный, и все в нем меняется стремительно, но Таня уверена в одном: быть смешной – не стыдно.
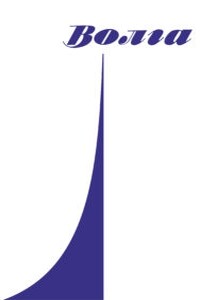
Роман о небольшом издательстве. О его редакторах. Об авторах, молодых начинающих, жаждущих напечататься, и маститых, самодовольных, избалованных. О главном редакторе, воюющем с блатным графоманом. О противоречивом писательско-издательском мире. Где, казалось, на безобидный характер всех отношений, случаются трагедии… Журнал «Волга» (2021 год)