Пробел - [15]
Такой, полагаю, была первая мысль, всплывшая, когда до меня дошло, насколько стеснительно и непотребно мое существование в лоне всеобщей белизны, когда я мучительно ощутил, что материальность тела служит препятствием такому мирному, такому умиротворяющему распространению пробела. Обнаружил, что обособлен, разнороден, исторгнут из отсутствующего сердца сведенного на нет мира, за которым я, конечно же, наблюдал, но в доле в котором мне было отказано. И в терявшейся в своих бесформенных, бесцветных и бессодержательных далях пустыне бытия я оскорблял небытие своим бесконечно жалким присутствием.
Но точно также, как мало-помалу удалось приноровиться и не бояться — ибо за страхом приходит движение, — я со смиренным терпением постарался воздержаться от отчаяния и возмущения и, наперекор всем треволнениям, ждал ради ожидания, без иного желания, кроме как продлить ожидание, без иной любви, кроме всеприятия. И, наподобие земли, которая никогда не кричит, на которой сменяются времена года и дни, я был еще и всем этим — только время года оставалось всегда одним, а день все тем же.
Думал я очень мало. Возможно, слова канули в пробел, как случается в приступе бессонницы, когда тебя вдруг касается заря, а тебя ничего не касается. Я лишь время от времени говорил себе: я жду. Но это была скорее не осознанная фраза, а телесное предчувствие как бы на полях глагола. Я ждал просто потому, что был там, потому, что держался стоя — без напряжения, свесив руки, раскрыв ладони, слегка расставив ноги, как внезапно выхваченный на ходу и остановленный до скончания времен пешеход. Я ждал потому, что все иные смыслы жизни окончательно обесценились: все компромиссы желания и реальности, вся категоричная система несомненных фактов, вся динамика планов и стремлений — иначе говоря, все никчемные привески, которые кроются за цеплянием за жизнь, перестали функционировать. Итак, оставалось только ожидание, а оно, в свою очередь, и не прерывалось, хотя до поры низкая политика сердца и рассудка постоянно держала его на задворках мотиваций личной истории (уж больно мы одержимы целями и трофеями). Я, стало быть, ждал. И только. И ожидание мое пребывало в каком-то горячечном месте так далеко от вещей, что даже не дрогнуло, не отвлеклось, когда подточенная собственной пустотой начала распадаться моя одежда. Оно не ослабло. Оно не усилилось еще более. (Воля с самого начала не имела к этому приключению доступа.) Оно оставалось равным себе в ровной праздности пробела.
С последней отринутой тканью моя нагота обрела длительность мгновения, чью полноту не могло очернить никакое внешнее искушение. Обрывки мысли вспыхивали вдруг в общем оцепенении моего духа лишь для того, чтобы поведать, что я никогда не буду достаточно наг для такого ожидания, никогда достаточно обнажен. И посему я продолжал ждать — словно, донельзя бескорыстно покорившись времени, завершал в душе ту процедуру отрицания, которую своими пределами ограничивало мое тело и из которой я долгое время полагал себя исключенным.
Подчас я говорил себе в молчании — как бубнишь ночью в уме, — что, если болезнь белизны затронет мое тело, начало этому должно быть положено в органе вожделения. Естественно, я думал об уде. Но, по правде говоря, думал мало, урывками. Лишь изредка наудачу проверял, не появилась ли на сей части тела начальная вакуоль. Куда чаще я ни за чем не следил, ни за чем не присматривал. Просто пребывал в ожидании, грезя, что мое тело полностью открылось окружающей белизне и насквозь пропиталось ею, вылеплено из нее как из неуловимого всерастворяющего молока — как будто, по образу и в противоположность первой, фонтанирующей матери, отсутствие было той последней, распределяющей пустоту, смерть и небытие матерью, что царит всецело и единственно своей чистой опалесценцией.
Что же до уда, почему именно его следовало считать главным органом вожделения? Не приводило ли оное в действие и в движение через взаимосвязь чувств всю целокупность плоти? Член возникал, несомненно, на перекрестье всех чувствительных и чувственных сетей, что зиждут плоть на мощи желания. Но очагом интерференции на равных служила каждая точка тела, и на то, чтобы по очереди их доискаться, исследовать и исчерпать даруемое ими наслаждение, могла бы уйти не одна жизнь. Но я, впрочем, готов был принять это приключение плоти и ее удовольствия как бесконечно длимую страсть, беспрестанно обогащаемую собственным упрямством, и как своего рода святость (или, по крайней мере, совершенство), вполне достойную человека, — и, в равной степени, отлично знал, что если желание обладает мощью, то она отнюдь не сводится к симфоническому всплеску чувств...
Точно также — пусть даже сии философические реминисценции из числа самых тщетных, а моя вера, пока я стою здесь, не имеет с ними ничего общего — меня ничуть не заботило, как именно окажется задето мое тело. Знать это было бы разве что забавно. Важно было лишь удержать так долго, как понадобится, внутреннюю готовность принять и приветить окончательное событие, какую бы форму оно ни приняло.
Изредка, когда меня словно пронзали проблески разумности, вдруг высвечивая устои моего собственного мрака, я говорил себе, что, идя на поводу у привычек и истории, слишком уж связывал прежде смерть и виновность, истолковывал все, что со мной происходило — и прежде всего боль, неудачу, упадок, — на фоне вины. Я присутствовал при появлении пробела и постепенном уничтожении моего универсума как на инсценировке своего наказания. И поначалу ощущал неотвратимую неизбежность заражения пустотой как угрозу, направленную непосредственно на меня и возвещающую, что я осужден. Мне показалось нормальным (в недрах подобной ненормальности) и необходимым (хотя вся эта история с пятном и стеной подчас производила впечатление в равной степени нечаянного и игрового опыта), что из-за изъяна, коим являлось мое существование, я, в свою очередь, как и все вещи, к которым привязался, был затронут столь же беглым, сколь и неумолимым симптомом

1995-й, Гавайи. Отправившись с родителями кататься на яхте, семилетний Ноа Флорес падает за борт. Когда поверхность воды вспенивается от акульих плавников, все замирают от ужаса — малыш обречен. Но происходит чудо — одна из акул, осторожно держа Ноа в пасти, доставляет его к борту судна. Эта история становится семейной легендой. Семья Ноа, пострадавшая, как и многие жители островов, от краха сахарно-тростниковой промышленности, сочла странное происшествие знаком благосклонности гавайских богов. А позже, когда у мальчика проявились особые способности, родные окончательно в этом уверились.

Самобытный, ироничный и до слез смешной сборник рассказывает истории из жизни самой обычной героини наших дней. Робкая и смышленая Танюша, юная и наивная Танечка, взрослая, но все еще познающая действительность Татьяна и непосредственная, любопытная Таня попадают в комичные переделки. Они успешно выпутываются из неурядиц и казусов (иногда – с большим трудом), пробуют новое и совсем не боятся быть «ненормальными». Мир – такой непостоянный, и все в нем меняется стремительно, но Таня уверена в одном: быть смешной – не стыдно.

В сборнике представлены семь рассказов популярной корейской писательницы Чхве Ынён, лауреата премии молодых писателей Кореи. Эти небольшие и очень жизненные истории, словно случайно услышанная где-то, но давно забытая песня, погрузят читателя в атмосферу воспоминаний и размышлений. «Хорошо, что мы живем в мире с гравитацией и силой трения. Мы можем пойти, остановиться, постоять и снова пойти. И пусть вечно это продолжаться не может, но, наверное, так даже лучше. Так жить лучше», – говорит нам со страниц рассказа Чхве Ынён, предлагая посмотреть на жизнь и проникнуться ее ходом, задуматься над тем, на что мы редко обращаем внимание, – над движением души и переживаниями событий.

Этот вдохновляющий и остроумный бестселлер New York Times от знаменитой вязальщицы и писательницы Клары Паркс приглашает читателя в яркие и незабываемые путешествия по всему миру. И не налегке, а со спицами в руках и с любовью к пряже в сердце! 17 невероятных маршрутов, начиная от фьордов Исландии и заканчивая крохотным магазинчиком пряжи в 13-м округе Парижа. Все это мы увидим глазами женщины, умудренной опытом и невероятно стильной, беззаботной и любознательной, наделенной редким чувством юмора и проницательным взглядом, умеющей подмечать самые характерные черты людей, событий и мест. Известная не только своими литературными трудами, но и выступлениями по телевидению, Клара не просто рассказывает нам личную историю, но и позволяет погрузиться в увлекательный мир вязания, знакомит с американским и мировым вязальным сообществом, приглашает на самые знаковые мероприятия, раскрывает секреты производства пряжи и тайные способы добычи вязальных узоров.
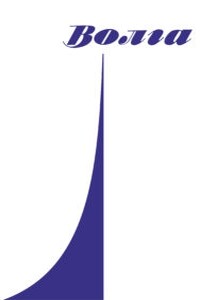
Роман о небольшом издательстве. О его редакторах. Об авторах, молодых начинающих, жаждущих напечататься, и маститых, самодовольных, избалованных. О главном редакторе, воюющем с блатным графоманом. О противоречивом писательско-издательском мире. Где, казалось, на безобидный характер всех отношений, случаются трагедии… Журнал «Волга» (2021 год)

Что случится, если в нашей реальности пропишутся персонажи русских народных сказок и мирового фольклора? Да не просто поселятся тут, а займут кресла мэра города и начальника местных стражей порядка, место иностранного советника по реформам, депутатские кабинеты и прочие почтенно-высокие должности. А реальность-то на дворе – то ли подзадержавшиеся лихие 90-е, то ли вовсе русское вневременье с вечной нашей тягой к бунту. Словом, будут лихие приключения.