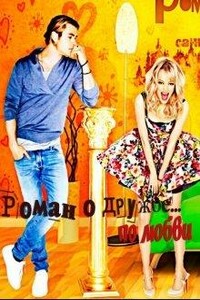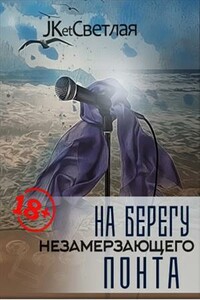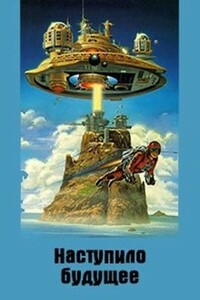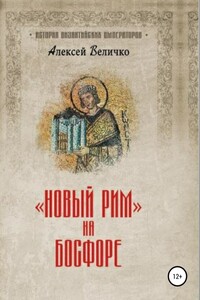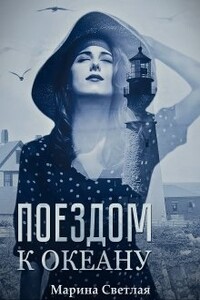— Ну скажи мне, что я идиот, — негромко произнес Пианист, и даже голос его, казалось, улыбается. Если только голоса могут улыбаться.
Лиса приложила свои пальцы к его ладоням.
— Не стану. Если тебе недостаточно тех канатов, которыми ты привязал меня к себе, пусть будет еще и этот, — ответила она.
— Мне мало. Мне всегда будет мало.
С того самого дня, как он отвел взгляд от закрывающихся за ней ворот в шталаге. С того самого дня, как он думал, что потерял ее навсегда. Этот страх жил в нем незримо. Час за часом. Шаг за шагом. Рваться за ней и стоять на месте. Да, ему всегда будет мало канатов, цепей, собственных сил. Ему всегда будет мало ее.
Пианист вжался лицом в ее руки и тихо заговорил:
— Я, наконец, куплю тебе нормальное кольцо. Сегодня же. Платье… у тебя было такое… черт, я не знаю, как называется этот цвет. Как топленое молоко. С узкими рукавами. Ты надевала его с ниткой жемчуга на крестины. Такая добропорядочная жена и мать. Когда ты в нем, я хочу тебя так сильно, что едва дышу. Так что в церковь мы не пойдем. Это непристойно, думать о твоем животе и бедрах во время венчания. Детей отправим к Бернабе, они только рады будут. И запремся на несколько суток дома. Хочешь?
— Хочу, — кивнула она. — Только прошу тебя, пожалуйста… пусть не будет никакой музыки.
— Пусть не будет никакой музыки, — хмыкнул Пианист и рассмеялся: — Разве только если радио включится само собой. Но я обещаю тебе его выключить.
Лиса снова промолчала. Она знала, Пианист всегда будет выключать радио. До тех пор, пока она не попросит его об обратном, пока она не найдет в себе силы услышать его музыку.
Примечание: нашей Heather aka Kalix в день ее рождения!
Фотографии, выпавшие из старого альбома, сыплются на пол, словно бы осколки жизни. Частицы мозаики, из которой она сложена. Маленькие черно-белые фрагменты замершего на века времени.
Кадр с улыбчивой девушкой, ни цвета волос, ни цвета глаз которой не разглядеть. Что уж говорить об искорках внутри радужек и веснушках на капризном носу?
В тот день было ее первое выступление в кабаре. В тот день его ослепило. А на фотокарточке постановочная улыбка, концертное платье, которое он еще помнил — аляповато расшитое синими блестками. Но нет солнца в золоте волос. Она стоит, улыбаясь, с цветами в руках. День их начала всего лишь.
Пианист откладывает это фотокарточку в сторону и тянется за следующим из общей кипы. Совершенно случайно — Лионец. Общих фотографий у них нет. Но одна его затесалась. Однажды Лионец приезжал к ним в Ренн, вскоре после войны. Они крепко надрались тогда. И рассорились из-за какой-то глупости. Но ни ссоры, ни связи меж ними картинка не показывает. Строгий взгляд и военная форма, которую оба они ненавидели. Таким Лионец никогда не был. Злым, раскаленным добела от ярости, хохочущим, когда другие молчат, почти безумным — был. Строгим, закованным в эту чертову форму — нет. Хоть выбрасывай. Но вместо этого Пианист бережно вставляет ее в альбом. Пусть остается — другой-то так и не нашлось.
А вот еще. Снова Лиса. Откуда-то из расцвета. По одну сторону ее импресарио, по другую — ее Изумруд, когда они были вместе. Где-то сзади, длинный, длиннее всех, он сам. Все как в жизни, но капельку не так. Они бесконечно веселились в конце тридцатых, и уже тогда он чувствовал, что это агония. Стоять за спиной — и ревновать ко всему миру. Не отнимать свободы — и стоять за спиной. Нужно быть безумным, чтобы отважиться на такую жизнь. Он отважился, она — нет. А здесь просто трое людей за кулисами театра, где она должна была петь в тот вечер. Тени, а не люди, которыми они были тогда. Разве можно доверить камере то, что бушует в изнанке?
Свадебная фотография. Почти такая же, как стоит на полке в изящной рамке. Только здесь Лиса смеется — он все-таки ущипнул ее за бок, совсем незаметно для объектива фотоаппарата. Фотограф не может видеть всего. Смех Лисы он увидел. Его серьезный взгляд — тоже. А сосредоточенные лисята выражений лиц не сменили. Разве это были они? Розовые банты вечно сбившихся кос, чернила на ладошках, выправленная из штанишек рубашка — здесь же только торжественные, но совсем не веселые мордочки. Будто и не лисята.
Да что могут видеть эти фотографы? Осколки его мира… Не больше. Самое важное на фотографию не попадает. Кем нужно быть, чтобы знать о других то, что они не покажут камере? Кем нужно быть, чтобы знать самое важное? Искр на земле совсем мало. Ему за всю жизнь встретилась только одна.
Она вся и была золотой, как искра.
Цветная карточка едва ли хоть немного передает ее цвет. Но золото волос здесь все-таки есть. Глаз вот не видно. Почти совсем не видно. Набережная Картахены. Первый вечер. Здесь они вдвоем. Она улыбается — она всегда улыбается — в объектив, прислонившись спиной к его груди. А он, обхватив ее за талию, будто боится отпустить, крепко сцепил пальцы у нее на животе. Первый день в Испании. Мучительно сладкое воспоминание. Туда они уехали после свадьбы на целый месяц, оставив детей в Бресте в полновластное распоряжение деда. Они всегда были эгоистами, оба. И думали только о себе. Он — о ней. Она — о нем. Иначе сонатно-симфонический цикл не складывался.