«Притащенная» наука - [126]
Другой конец той же палки – внезапно лопнувший пузырь липовой социалистической экономики. На поверку она оказалась также «штучной», т.е. годной для применения только в своей стране. Ясно, что оба эти конца состыковать было невозможно. Отсюда и характерные парадоксы существования постсоветской науки (на некоторых из них мы останавливались), и хлынувший на Запад поток «умов», и полная растерянность демократических правителей, не понимающих, что следует предпринять в этой отчетливо парадоксальной ситуации.
Вообще говоря, существуют всего две альтернативные возможности. Первая якобы опирается на «заботу о человеке»: никого не трогать, ничего не рушить, пусть все идет как предрасположено. Люди будут на месте, а что там станется с наукой, – дело второстепенное. Вторая исходит из прямо противоположного: надо спасать те отрасли науки, где мы еще что-то можем, остальным – резко сократить финансирование, и пусть, коли хотят жить, сами о себе заботятся.
Уже к началу нового столетия верх все же одержал второй подход.
Ранее, напомню, развитие науки «по всему фронту» было ориентировано только на оборону и международный престиж и поощрялось в СССР не из-за финансовой мощи страны, а из-за ставшего традиционным существования «первой в мире страны социализма» в условиях осажденной крепости [705]. И хотя, как точно заметил Ж.А. Медведев, «Россия сегодня не может поддерживать сложную научную инфраструктуру бывшей супердержавы» [706], очень долго никто не брал на себя ответственность за решение – а что все же поддерживать, чтобы сохранить свое научное лицо хотя бы в отдельных областях знания?
Происходило поэтому равномерное усыхание всех естественных и технических наук, ибо уже был перейден тот критический порог финансирования, за которым наступила полная остановка исследовательского процесса: у химиков не было и нет средств на закупку новых приборов и даже реактивов, физики также не в состоянии строить необходимые для экспериментов установки, геологи прекратили полевые экспедиционные работы, выезжают лишь единицы на полученные гранты.
И еще я не знаю, как оценить такого рода отставание наших высокотехнологичных отраслей науки: как принципиальное или все же временное – наладится финансирование и мы опять будем «впереди планеты всей». Речь идет о продаже патентов и лицензий: если США в 1994 г. продали их 444 тыс., то Россия – всего 4 тыс., чуть больше Венгрии и меньше Испании [707].
Итак, российской науке сегодня плохо по всем статьям: она сидит на голодном пайке, теряет наиболее перспективные кадры, резко, как шагреневая кожа, сокращается. Это касается, повторяю, всей науки.
Однако все разговоры во ее спасение ведутся только вокруг Академии наук. Об этом свидетельствуют указы и речи как первого, так и второго президентов России, многочисленные статьи в научной периодике, публицистически острые материалы в средствах массовой информации. О ведомственной и вузовской науке никто не вспоминает.
Если в этом и состоит структурная перестройка нашей науки, то можно заранее сказать, что более 90% ее былой численности сознательно обрекли на умирание. В этом, кстати, выражается еще один парадокс сегодняшнего дня.
На самом деле, еще в конце 80-х годов на долю Академии наук приходилось лишь 4% затрат [708], а 96% поглощала ведомственная (отраслевая) и вузовская наука.
Правда, подобные цифры – вещь лукавая, ибо нет достоверных данных ни о численности научных сотрудников, занятых в разных по ведомственной принадлежности «науках», ни о суммарных затратах. Однако порядок цифр все же устанавливается достаточно надежно. Действительно, в 1988 г. в стране было 1522,2 тыс. научных и научно – педагогических кадров. Из них в академическом секторе было занято лишь 149 тыс. человек, т.е. 9,8% научного потенциала страны. На долю же АН СССР приходилось всего 4,1% всех научных и научно-педагогических работников [709]. По другим данным на конец 1990 г. в Академии трудилось 140 тыс. человек, из них 65 тысяч научных работников [710]. По данным же президента АН СССР Г.И. Марчука на конец 1991 г. численность Академии составила 160 тыс. человек, из них 66 тыс. научных работников [711].
Если верить этим данным, то процесс вырисовывается довольно странный: наука стала заметно нищать, а желающих работать в ней заметно прибавилось? Что-то в это не верится.
То, что численность сотрудников Академии год от года росла, мы уже отмечали. Дополнительно все же заметим, что за 25 лет (с 1965 по 1990 г.) число занятых в академическом секторе науки возросло в 3,1 раза. Когда в 1992 году начался финансовый крах российской науки, то быстро осознали цену ее экстенсивного роста при советской власти. На общем собрании Академии наук ее президент Ю.С. Осипов обратился к собравшимся с вопросом: насколько стратегически было необходимо «разбухание Академии?» [712]. Теперь же за подобную, с позволения сказать, «стратегию» приходилось расплачиваться. Причем в жертву были принесены не случайные для науки люди, в изобилии расплодившиеся за прежние годы, – они мертвой хваткой держались за свои места; ушли же молодые, энергичные и дееспособные – те, кто считался потенциалом российской науки.

Книга является первой в нашей отечественной историографии попыткой сравнительно полного изложения социальной истории русской науки за три столетия ее существования как государственного института. Показано, что все так называемые особости ее функционирования жестко связаны с тремя историческими периодами: дооктябрьским, советским и постсоветским. Поскольку наука в России с момента основания Петром Великим в Петербурге Академии наук всегда была государственной, то отсюда следует, что политическая история страны на каждом из трех выделенных нами этапов оказывала решающее воздействие на условия бытия научного социума.

Автором в популярной форме описываются крупнейшие завоевания геологической мысли: попытки естествоиспытателей познать геологическую историю нашей планеты, сопоставить между собой события, происходившие многие миллионы лет тому назад в разных районах земного шара; доказать, что океаническое дно и континентальная суша в геологическом отношении – «две большие разницы». Рассказано также, куда и почему перемещается океаническое дно, каким на основе данных геологии представляется будущее развитие Земли.Книга будет полезна и любознательным школьникам, и серьезным студентам естественнонаучных факультетов университетов, и преподавателям, не утратившим вкус к чтению специальной литературы, да и дипломированным геологам, которым также не вредно познакомиться с историей своей науки.

Каждая творческая личность, жившая при советской власти, испытала на себе зловещий смысл пресловутого принципа социализма (выраженного, правда, другими словами): от каждого – по таланту, каждому – по судьбе. Автор для иллюстрации этой мысли по вполне понятным причинам выбрал судьбы, что называется, «самых – самых» советских поэтов и прозаиков. К тому же у каждого из них судьба оказалась изломанной с садистской причудливостью.Кратко, но в то же время и достаточно полно рисуются трагические судьбы С. Есенина, В.
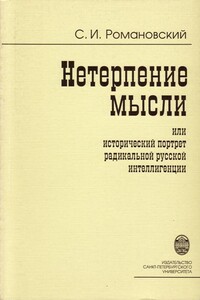
Книга посвящена всестороннему культурологическому и политологическому анализу роли в российском историческом процессе радикальной русской, а также советской и постсоветской интеллигенции. Впервые обосновывается резкая грань между этими тремя понятиями. Автор не ограничивается уже набившим оскомину анализом деструктивного влияния интеллигенции на слом российской, а затем советской государственности, он ставит вопрос шире – интеллигенция, как свободомыслящая социальная группа интеллектуалов, на всех отрезках российской истории находилась в оппозиции к властным структурам, отсюда и взаимное отчуждение интеллигенции и государства, отсюда же и её «отщепенство» в глазах народа российского.Книга представляет интерес для всех, кто интересуется российской историей и культурой.

Опубликовано в журнале «Левая политика», № 10–11 .Предисловие к английскому изданию опубликовано в журнале «The Future Present» (L.), 2011. Vol. 1, N 1.
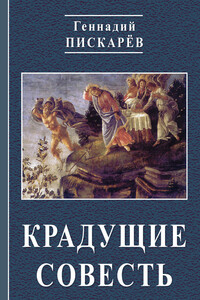
«Спасись сам и вокруг тебя спасутся тысячи», – эта библейская мысль, перерожденная в сознании российского человека в не менее пронзительное утверждение, что на праведнике земля держится, является основным стержнем в материалах предлагаемой книги. Автор, казалось бы, в незамысловатых, в основном житейских историях, говорит о загадочном тайнике человеческой души – совести. Совести – божьем даре и Боге внутри самого человека, что так не просто и так необходимо сохранить, когда правит бал Сатана.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«Правда не нуждается в союзниках» – это своего рода учебное пособие, подробный путеводитель по фотожурналистике, руководство к действию для тех, кто хочет попасть в этот мир, но не знает дороги.Говард Чапник работал в одном из крупнейших и важнейших американских фотоагентств, «Black Star», 50 лет (25 из которых – возглавлял его). Он своими глазами видел рождение, расцвет и угасание эпохи фотожурналов. Это бесценный опыт, которым он делится в своей книге. Несмотря на то, как сильно изменился мир с тех пор, как книга была написана, она не только не потеряла актуальности, а стала еще важнее и интереснее для современных фотографов.
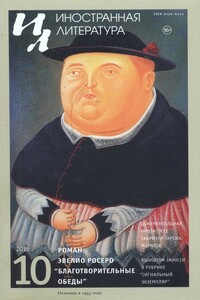
В рубрике «Документальная проза» — газетные заметки (1961–1984) колумбийца и Нобелевского лауреата (1982) Габриэля Гарсиа Маркеса (1927–2014) в переводе с испанского Александра Богдановского. Тема этих заметок по большей части — литература: трудности писательского житья, непостижимая кухня Нобелевской премии, коварство интервьюеров…