Приёмыши революции - [222]
— Не знаю, можно, наверное, сказать и так.
— Ладно, нехорошие разговоры ведём, кто бы они там ни были — пусть их поразит Господь, или по крайней мере уведёт их пути от наших. Нет нужды говорить о делах твоих родителей, просто расскажи, какими они были. Какими были для тебя. Это в любом случае не может быть запрещено.
— Я не знаю, что рассказать, правда. Как это рассказать… Мама была очень красивой, и, я думаю, очень несчастной. Она так ждала моего рождения, а моя болезнь сделала её глубоко несчастной. Она не жаловалась, не в её характере было жаловаться на судьбу, только самые близкие видели её боль… Я этого долго не понимал, сколько душевных сил ей стоило растить меня, быть со мной во время моих многочисленных приступов, стараться облегчить мои страдания, не показывая при этом свои. Я это принимал как должное, только когда подрос, стал многое понимать… Но мне не хватило времени. Я не успел сказать, как сильно я люблю её. Как на самом деле я люблю её, не потому только, что она моя мама, что она читала мне книжки, поправляла подушки, целовала меня на ночь. А потому, что она так много пережила — и никогда не упрекала меня, и жертвовала своим временем, своими друзьями, чтобы быть со мной. А я иногда бывал невыносим, это правда. Я научился не плакать, не капризничать, не требовать, чтоб мне немедленно стало легче, я стал бороться с болезнью… — Алексей грустно улыбнулся, вспомнив свои дерзкие «я сам», последнее — в том походе в ванную, — но… поздно. Когда она уже привыкла к моей беспомощности, привыкла беспокоиться обо мне ежечасно, и уже моё стремление к самостоятельности стало причинять ей боль. Она успела смириться, что я навсегда останусь беспомощным, зависимым от неё дитём, а я не хотел так, я страдал от того, что не могу однажды перестать быть причиной её тревог и стать только её радостью. Я обречён был всегда причинять ей боль… Всё в мире, говорят, разумно и правильно, но не вижу, зачем рождаться таким детям, как я.
— Чтобы научить родителей терпению.
— Да уж… Для этого и обычного ребёнка вполне достаточно. Со мной, Ицхак, были связаны слишком светлые ожидания, и я слишком жестоко их не оправдал. Это ведь такая жизнь, которая может быть только мучением, в каждом вдохе, и никак иначе. В очередной приступ болезни я думал — если б Господь наконец забрал меня к себе, прекратил это всё… И ужасался тут же этой мысли, понимая, что им не пережить такого горя, моя могила — это не то, что они могли б увидеть и жить как-то дальше. Но в то же время — год за годом смотреть на мои страдания и знать, что это не последний раз, что это непременно будет снова и снова, им всю жизнь жить в напряжении, в непрерывном ожидании ужасного… А когда им придёт время умереть — с каким сердцем они уйдут, понимая, что оставляют меня, теперь без их помощи и заботы? Сначала я думал — это так несправедливо, что я не был с ними в последние их минуты, что они умирали вдали от меня. Теперь я думаю — это жестокая, горькая, но справедливость. Я испортил им всю жизнь, но на пороге смерти у них была зыбкая, призрачная, но надежда. Что я жив, и дальше буду жить… И они не видели моих слёз, моего горя, оно не рвало им сердце. Странно так бывает, когда учишься думать о других, о том, что они чувствуют… Когда один наш слуга рассказал мне, что животные, когда предчувствуют свою смерть, уходят от хозяев, чтоб умереть в одиночестве, меня это удивило… Животные благороднее, они не хотят расстраивать…
Конечно, главного он не может сказать Ицхаку — о том, что неизбежно думает об этом последнем дне их жизни, мучительном настолько, что это невозможно представить… Неужели за завтраком они могли выдавить из себя хоть слово к тем девушкам, которые заменяли их дочерей — по крайней мере одна из них была ведь безжалостной убийцей, и они об этом знали. Неужели они клали ладони на лоб с рождения буйно помешанного, выдавая беспокойство от мысли — что будет, если кончится действие наркотика и он проснётся, за беспокойство о его состоянии. Выходили на прогулку под руку с кем-то из этих чужих, опасных девушек? О чём они говорили с ними? Что из привычных занятий — чтение, игра в карты — могло быть им в этот день по силам? Дни там всегда тянулись мучительно долго, но этот, несомненно, особенно. И они смогли этот день пережить.
Но к счастью, Ицхак и не ждёт от него этого рассказа. Просто рассказать о родителях…
— Мой отец был очень добрым, мягким человеком. Многие, кажется, ставили ему это в упрёк… Когда-то мне казалось, что моего отца любят все, что просто нельзя его не любить. Опять же, слишком многого я не понимал тогда. На него вообще свалилось слишком много, не знаю, кто мог бы вынести столько, не сломаться под таким грузом, я долго думал, что он — не сломался, что отец может вообще всё, что все в него верят и не может быть иначе. Он был для меня идеалом, недостижимым идеалом — я, конечно, понимал, что мне никогда не стать таким большим и сильным, как он, но я, конечно, мечтал быть хотя бы некоторым его подобием. На самом деле, конечно, я не в состоянии представить, каково хотя бы это — разрываться между семьёй и… всем остальным. Если бы он хотя бы меньше любил нас… Или хотя бы — если б не я, главная причина его слабости и источник его проблем. Каких сил ему требовалось оторвать себя от нас, когда нужно было куда-то ехать, решать какие-то вопросы — и конечно, сложно было набрать ещё больших сил для того, чтоб решать все эти вопросы, ради которых он уезжал, а не быть всё время мысленно с нами. А когда он был с нами, долг давил на него нестерпимым грузом и не позволял ощущать радость в полную силу, даже когда всё было хорошо… Я думаю, я никогда не узнаю, был он большей степени доверчивым или самонадеянным, то ли погубило его, что он полагался не на тех людей, или что не слушал разумных советов, считая, что всё должен решать сам, сложно мне об этом судить, с позиции ребёнка, слишком часто прикованного к постели, одни могут об этом сказать так, другие эдак… Все люди, конечно, ошибаются, но его ошибки стоили слишком дорого. Говорят, что дети не должны судить родителей, но жестокая правда, что именно детям и приходится их судить. И мы до тех пор не будем счастливы, пока не осудим их правильно — ничего не приукрашивая, ничего не прибавляя и не убавляя, при всей любви своей, при всех своих обидах… Обидно то, что когда-то я считал, что мне нет места в этой жизни, я живу лишь некой ошибкой, допущением — и исправить это при том нельзя никак, и даже каждая мысль об этом грех, при том грех трагически неизбежный… а теперь вышло, что их нет, а я живу. Вышло так, что ведь им всё равно не было места в новой реальности — потому что они сами не стали бы его искать, не приняли бы, и эта новая реальность уничтожила бы их — всё равно уничтожила бы, даже сумей они эмигрировать, даже проживи до глубокой старости. Они страдали бы всегда, потому что мир их был разрушен, а другого взамен они не желали. Но я не могу даже ненавидеть ни эту новую реальность, ни её творцов, потому что ненависть ничего мне не вернёт и никому не сделает лучше, потому что среди них тоже есть хорошие люди… да просто — люди, которые со своей стороны — тоже правы, потому что никто вообще не совершенен, вся правда только у Бога, и потому что несмотря на то, что они умерли — я хочу жить. Ты очень понятно для меня сказал, что никогда не примешь христианство, так и я не могу, конечно, принять большевизм, но я обязан принять хотя бы то, что большевизм дал мне шанс на жизнь, что мои родители приняли этот шанс и оплатили его своей кровью, потому что их любовь к нам оказалась для них выше принципов, выше гордости и да, я теперь не имею права на тоску и не имею права не прожить так долго и так счастливо, как только возможно…

«С замиранием сердца ждал я, когда начнет расплываться в глазах матово сияющий плафон. Десять кубов помчались по моей крови прямо к сердцу, прямо к мозгу, к каждому нерву, к каждой клетке. Скоро реки моих вен понесут меня самого в ту сторону, куда устремился ты — туда, где все они сливаются с чёрной рекой Стикс…».
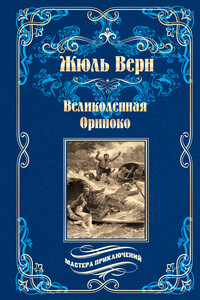
Трое ученых из Венесуэльского географического общества затеяли спор. Яблоком раздора стала знаменитая южноамериканская река Ориноко. Где у нее исток, а где устье? Куда она движется? Ученые — люди пылкие, неудержимые. От слов быстро перешли к делу — решили проверить все сами. А ведь могло дойти и до поножовщины. Но в пути к ним примкнули люди посторонние, со своими целями и проблемами — и завертелось… Индейцы, каторжники, плотоядные рептилии и романтические страсти превратили географическую миссию в непредсказуемый авантюрный вояж.

В настоящей книге американский историк, славист и византист Фрэнсис Дворник анализирует события, происходившие в Центральной и Восточной Европе в X–XI вв., когда формировались национальные интересы живших на этих территориях славянских племен. Родившаяся в языческом Риме и с готовностью принятая Римом христианским идея создания в Центральной Европе сильного славянского государства, сравнимого с Германией, оказалась необычно живучей. Ее пытались воплотить Пясты, Пржемыслиды, Люксембурга, Анжуйцы, Ягеллоны и уже в XVII в.
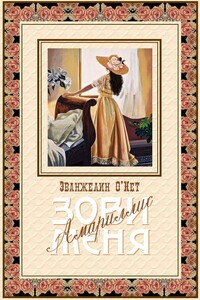
Как же тяжело шестнадцатилетней девушке подчиняться строгим правилам закрытой монастырской школы! Особенно если в ней бурлит кровь отца — путешественника, капитана корабля. Особенно когда отец пропал без вести в африканской экспедиции. Коллективно сочиненный гипертекстовый дамский роман.
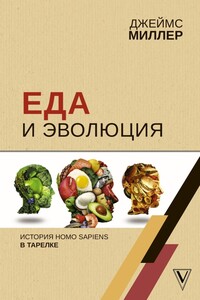
Мы едим по нескольку раз в день, мы изобретаем новые блюда и совершенствуем способы приготовления старых, мы изучаем кулинарное искусство и пробуем кухню других стран и континентов, но при этом даже не обращаем внимания на то, как тесно история еды связана с историей цивилизации. Кажется, что и нет никакой связи и у еды нет никакой истории. На самом деле история есть – и еще какая! Наша еда эволюционировала, то есть развивалась вместе с нами. Между куском мяса, случайно упавшим в костер в незапамятные времена и современным стриплойном существует огромная разница, и в то же время между ними сквозь века и тысячелетия прослеживается родственная связь.

Видный британский историк Эрнл Брэдфорд, специалист по Средиземноморью, живо и наглядно описал в своей книге историю рыцарей Суверенного военного ордена святого Иоанна Иерусалимского, Родосского и Мальтийского. Начав с основания ордена братом Жераром во время Крестовых походов, автор прослеживает его взлеты и поражения на протяжении многих веков существования, рассказывает, как орден скитался по миру после изгнания из Иерусалима, потом с Родоса и Мальты. Военная доблесть ордена достигла высшей точки, когда рыцари добились потрясающей победы над турками, оправдав свое название щита Европы.

Разбирая пыльные коробки в подвале антикварной лавки, Андре и Эллен натыкаются на старый и довольно ржавый шлем. Антиквар Архонт Дюваль припоминает, что его появление в лавке связано с русским князем Александром Невским. Так ли это, вы узнаете из этой истории. Также вы побываете на поле сражения одной из самых известных русских битв и поймете, откуда же у русского князя такое необычное имя. История о великом князе Александре Ярославиче Невском. Основано на исторических событиях и фактах.