Придворная словесность: институт литературы и конструкции абсолютизма в России середины XVIII века - [61]
<…> чувствительное познание своего Творца; Его святое намерение в создании нас, и нашей за то Ему посвященной должности. Первое происходит тогда, когда уже наполнится сердце любовию и повиновением к Нему и ко власти, от Него постановленной; второе – от сердечнаго желания о точном исполнении своего звания, для которых на свет производимся; третие от ревности и попечения – учинить себя способным к исполнению долга того звания (Панин 1882, 317).
Христианская «должность» прочно вписана здесь в секулярные политические иерархии и отождествлена с политическим рвением «о точном исполнении своего звания». Этому политическому благочестию Панин подчиняет и назидательное чтение Писания:
<…> он сам в своем чувствии откроет духовной и естественной закон, которой Бог безпосредственно предписал откровением священнаго писания, и в здравой совести Своим избранным помазанным, яко Его во плоти наместникам, о попечении народнаго благосостояния в сей времянной жизни (Там же).
Духовное наставничество Платона Левшина тоже следовало политико-богословской логике. В 1764 г. Платон поднес своему воспитаннику «Рассуждение о Мельхиседеке», упомянутом в Псалтыри ветхозаветном царе-священнике и предтече Христа: «Христос кроме того, что Священник, есть Царь, царствующий духовно в церкви своей: и Мельхиседек кроме священства был и Царь» (Платон 1780, 236). В другой раз, толкуя наследнику последний разговор апостола Петра с Иисусом, который «поручил ему паству свою», Платон «заключил, что тем и государям повелевается любить народ свой, врученный от Бога, что народ есть паства, государь пастырь и проч.» (Порошин 2004, 64). На этом фоне предпринятое двумя наставниками Павла чтение псалмов царствующего пророка Давида в отечественных переложениях заставляет задаться вопросом об их политико-богословской основе.
Предпосланный «Трем одам парафрастическим…» эпиграф из Горация и стоявшая за ним идея нравоучительной словесности должны были вызвать у первых читателей вполне определенные литературные ассоциации, отчасти очерченные Ю. В. Стенником (1984, 104). В 1743 г., когда задумывалось и осуществлялось тройственное состязание, в Петербург был переправлен итоговый рукописный сборник стихотворений Кантемира, переводчика и подражателя Горация. Как мы уже видели, для соперничавших перелагателей 143‐го псалма Кантемир был, безусловно, крупнейшей фигурой немноголюдного русского Парнаса. «Три оды парафрастические…» адресовались той же немногочисленной публике, что и сборник Кантемира. Строки из «Науки поэзии», вынесенные в эпиграф к брошюре, Кантемир использовал в предисловии к своим переводам, говоря о самом Горации: «<…> его сочинения <…> заслужили себе отменную похвалу и почтение» (Кантемир 1867–1868, I, 388).
В двух своих «песнях», или одах, Кантемир дал образцы лирической формы, сочетавшей горацианскую поэтику с библейскими и христианскими темами. «Основание» оды «Противу безбожных», по словам авторских примечаний, было «взято из 34 Горациевой в книге I», однако «доказывается в ней бытие божества чрез его твари» (Кантемир 1956, 203). Сходный жанровый эксперимент осуществлялся в оде «О надежде на бога»:
(Там же, 197)
В примечании Кантемир пояснял:
Основание сей песни взято из Евангелия и из Горация. Чудно, сколь меж собою Спаситель и римский стихотворец согласуются в совете о отложении лишних попечений и сколь от того разгласные заключения производят. Смотри в святом Евангелии от Матфея, гл. 6, ст. 28 и от Луки, гл. 12, ст. 27, да Горациеву оду 9 книги I (Там же, 204).
Расхождение между Евангелием и «римским стихотворцем» связано с нравственными уроками Горация: его ода советует читателю предаться светским и любовным утехам. В пояснениях к ней П. Санадон, еще один известный французский комментатор, писал о Горации: «Franc Epicurien, il tire, pour ainsi dire, parti de tout en faveur de la volupté» ([Истинный эпикуреец, он все, так сказать, оборачивает к сластолюбию] – Horace 1756, 106). Однако напоминание об отброшенных в русском переложении гедонистических темах Горация не отражало общих взглядов Кантемира на римского поэта, ценимого более всего за нравоучительные сочинения. Лирический гедонизм классика служил скорее контрастным фоном для поэтического назидания, разворачивавшегося в сложной стилистической партитуре оды: наряду с вариациями Евангелия и Горация (в строфах 1–2 и 4–6) ее изощренный лирический синтаксис, выстроенный по латинским поэтическим образцам, вмещает элементы латинизированного языка петровской политической прозы.
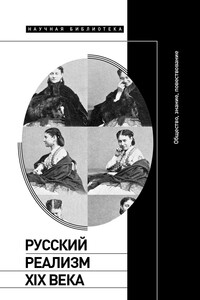
Научная дискуссия о русском реализме, скомпрометированная советским литературоведением, прервалась в постсоветскую эпоху. В результате модернизация научного языка и адаптация новых академических трендов не затронули историю русской литературы XIX века. Авторы сборника, составленного по следам трех международных конференций, пытаются ответить на вопросы: как можно изучать реализм сегодня? Чем русские жанровые модели отличались от западноевропейских? Как наука и политэкономия влияли на прозу русских классиков? Почему, при всей радикальности взглядов на «женский вопрос», роль женщин-писательниц в развитии русского реализма оставалась весьма ограниченной? Возобновляя дискуссию о русском реализме как важнейшей «моделирующей системе» определенного этапа модерности, авторы рассматривают его сквозь призму социального воображаемого, экономики, эпистемологии XIX века и теории мимесиса, тем самым предлагая читателю широкий диапазон современных научных подходов к проблеме.

Автор монографии — член-корреспондент АН СССР, заслуженный деятель науки РСФСР. В книге рассказывается о главных событиях и фактах японской истории второй половины XVI века, имевших значение переломных для этой страны. Автор прослеживает основные этапы жизни и деятельности правителя и выдающегося полководца средневековой Японии Тоётоми Хидэёси, анализирует сложный и противоречивый характер этой незаурядной личности, его взаимоотношения с окружающими, причины его побед и поражений. Книга повествует о феодальных войнах и народных движениях, рисует политические портреты крупнейших исторических личностей той эпохи, описывает нравы и обычаи японцев того времени.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В настоящей книге чешский историк Йосеф Мацек обращается к одной из наиболее героических страниц истории чешского народа — к периоду гуситского революционного движения., В течение пятнадцати лет чешский народ — крестьяне, городская беднота, массы ремесленников, к которым примкнула часть рыцарства, громил армии крестоносцев, собравшихся с различных концов Европы, чтобы подавить вспыхнувшее в Чехии революционное движение. Мужественная борьба чешского народа в XV веке всколыхнула всю Европу, вызвала отклики в различных концах ее, потребовала предельного напряжения сил европейской реакции, которой так и не удалось покорить чехов силой оружия. Этим периодом своей истории чешский народ гордится по праву.

Имя автора «Рассказы о старых книгах» давно знакомо книговедам и книголюбам страны. У многих библиофилов хранятся в альбомах и папках многочисленные вырезки статей из журналов и газет, в которых А. И. Анушкин рассказывал о редких изданиях, о неожиданных находках в течение своего многолетнего путешествия по просторам страны Библиофилии. А у немногих счастливцев стоит на книжной полке рядом с работами Шилова, Мартынова, Беркова, Смирнова-Сокольского, Уткова, Осетрова, Ласунского и небольшая книжечка Анушкина, выпущенная впервые шесть лет тому назад симферопольским издательством «Таврия».
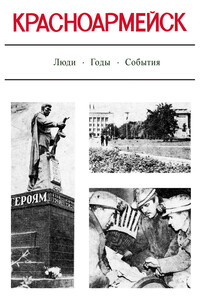
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В интересной книге М. Брикнера собраны краткие сведения об умирающем и воскресающем спасителе в восточных религиях (Вавилон, Финикия, М. Азия, Греция, Египет, Персия). Брикнер выясняет отношение восточных религий к христианству, проводит аналогии между древними религиями и христианством. Из данных взятых им из истории религий, Брикнер делает соответствующие выводы, что понятие умирающего и воскресающего мессии существовало в восточных религиях задолго до возникновения христианства.

В своем последнем бестселлере Норберт Элиас на глазах завороженных читателей превращает фундаментальную науку в высокое искусство. Классик немецкой социологии изображает Моцарта не только музыкальным гением, но и человеком, вовлеченным в социальное взаимодействие в эпоху драматических перемен, причем человеком отнюдь не самым успешным. Элиас приземляет расхожие представления о творческом таланте Моцарта и показывает его с неожиданной стороны — как композитора, стремившегося контролировать свои страсти и занять достойное место в профессиональной иерархии.

Представление об «особом пути» может быть отнесено к одному из «вечных» и одновременно чисто «русских» сценариев национальной идентификации. В этом сборнике мы хотели бы развеять эту иллюзию, указав на относительно недавний генезис и интеллектуальную траекторию идиомы Sonderweg. Впервые публикуемые на русском языке тексты ведущих немецких и английских историков, изучавших историю довоенной Германии в перспективе нацистской катастрофы, открывают новые возможности продуктивного использования метафоры «особого пути» — в качестве основы для современной историографической методологии.

Для русской интеллектуальной истории «Философические письма» Петра Чаадаева и сама фигура автора имеют первостепенное значение. Официально объявленный умалишенным за свои идеи, Чаадаев пользуется репутацией одного из самых известных и востребованных отечественных философов, которого исследователи то объявляют отцом-основателем западничества с его критическим взглядом на настоящее и будущее России, то прочат славу пророка славянофильства с его верой в грядущее величие страны. Но что если взглянуть на эти тексты и самого Чаадаева иначе? Глубоко погружаясь в интеллектуальную жизнь 1830-х годов, М.

Книга посвящена истории русской эмоциональной культуры конца XVIII – начала XIX века: времени конкуренции двора, масонских лож и литературы за монополию на «символические образы чувств», которые образованный и европеизированный русский человек должен был воспроизводить в своем внутреннем обиходе. В фокусе исследования – история любви и смерти Андрея Ивановича Тургенева (1781–1803), автора исповедального дневника, одаренного поэта, своего рода «пилотного экземпляра» человека романтической эпохи, не сумевшего привести свою жизнь и свою личность в соответствие с образцами, на которых он был воспитан.