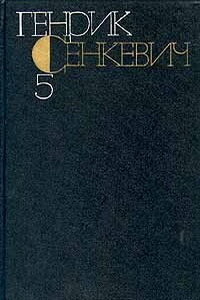Повести и рассказы - [37]
Должен заметить, что ксендз Людвик, человек вообще весьма образованный, французского не знал и не мог его одолеть, хотя столько лет прожил под одним кровом с мадам д'Ив. А бедняга, как назло, питал слабость именно к французскому языку и знание его считал непременным условием высшего образования.
— Действительно Ганя учится легко и охотно, в этом я не могу ей отказать,— подтвердила мадам д'Ив,— тем не менее я должна вам пожаловаться на нее,— прибавила она, обращаясь ко мне.
— О мадам! В чем же я провинилась? — вскричала Ганя, складывая руки.
— В чем провинилась? А вот сейчас ты будешь оправдываться,— ответила мадам д'Ив. — Представьте себе, что эта панна, как только улучит минутку досуга, сразу хватается за роман, и у меня имеются некоторые основания предполагать, что, ложась в постель, она, вместо того чтобы погасить свечу и спать, читает еще целыми часами.
— Это очень нехорошо; впрочем, мне известно из других источников, что она следует по стопам своей учительницы,— сказал отец, любивший поддразнить мадам д'Ив, когда бывал в хорошем настроении.
— О, прошу прощения, но мне сорок пять лет,— воскликнула француженка.
— Скажите пожалуйста, никогда бы этого не сказал,— ответил отец.
— Какой вы недобрый!
— Не знаю, я знаю только, что, если Ганя достает откуда-нибудь романы, то, во всяком случае, не из библиотеки, потому что ключ от нее хранится у ксендза Людвика. Следовательно, вина падает на учительницу.
Действительно, мадам д'Ив всю жизнь зачитывалась романами, а так как у нее была страсть их пересказывать, она, наверное, рассказывала и Гане. Поэтому в полушутливых словах отца таилась доля правды, которую он намеренно высказал.
— Смотрите, господа, кто-то к нам едет,— внезапно крикнул Казик,
Вглядевшись, мы увидели в конце тенистой липовой аллеи, пожалуй в доброй версте отсюда, облако пыли, которое приближалось к нам с необыкновенной быстротой.
— Кто же это может быть? И так быстро,— вставая, заметил отец. — Пыль такая, что ничего нельзя разобрать.
Действительно, жара стояла страшная, дождей не было уже свыше двух недель, и при малейшем движении на дороге поднимались тучи белой пыли. С минуту еще мы тщетно всматривались в приближающееся облако, которое было уже шагах в пятидесяти от дома, как вдруг из тумана вынырнула голова лошади с красными раздувающимися ноздрями, огненными глазами и развевающейся гривой. Белый копь несся во весь опор, едва касаясь ногами земли, а на нем, по-татарски пригнувшись к шее, скакал не кто иной, как мой приятель Селим.
— Селим едет, Селим! — воскликнул Казик.
— Что этот сумасшедший вытворяет! Ворота заперты! — крикнул я, срываясь с места.
Уже поздно было отпирать ворота, да никто и не успел бы вовремя подбежать; между тем Селим мчался очертя голову, как безумный, и казалось, неизбежно напорется на высокий частокол, заостренный кверху.
— Боже! Смилуйся над ним! — взывал ксендз Людвик.
— Ворота! Селим, ворота! — завопил я как одержимый, размахивая платком, и бросился со всех ног через двор.
Вдруг Селим шагах в пяти от ворот выпрямился в седле и быстрым, как молния, взглядом смерил забор. Потом до меня донесся женский крик с террасы, стремительный топот копыт — конь взвился, повис передними ногами в воздухе и на всем скаку перемахнул через забор, не задержавшись ни на миг.
Лишь перед самой террасой Селим осадил его так, что копыта врылись в землю, затем сорвал с головы шляпу и, размахивая ею, как флажком, закричал:
— Как поживаете, мои милые, дорогие друзья? Как пожинаете? Мое почтение, сударь! — поклонился он отцу. — Мое почтение, дорогой ксендз, мадам д'Ив, панна Ганна. Наконец мы снова вместе. Виват! Виват!
С этими словами он соскочил с коня и, бросив поводья выбежавшему из сеней Франеку, принялся обнимать отца и ксендза и целовать ручки дамам.
Мадам д'Ив и Ганя были еще бледны от страха, но именно поэтому они встретили Селима, словно он спасся от смерти, а ксендз Людвик сказал:
— Ох, сумасшедший, сумасшедший, и напугал же ты нас, Мы думали, тебе уж конец пришел,
— А что?
— Да ворота. Ну, можно ли так мчаться сломя голову?
— Сломя голову? Но ведь я видел, что ворота заперты. Ого! У меня превосходные, истинно татарские глаза.
— И ты не боялся скакать?
Селим засмеялся.
— Нет, ничуть, ксендз Людвик. Но, впрочем, это заслуга моего коня, а не моя.
— Yoila un brave garcon![7] — воскликнула мадам д'Ив.
— О да, не всякий бы на это отважился,— прибавила Ганя.
— Ты хочешь сказать,— возразил я,— что не всякий конь решился бы перескочить, а людей таких нашлось бы немало.
Гапя остановила на мне долгий взгляд,
— Я бы вам не советовала пытаться.
Потом посмотрела на Селима, и во взоре ее выразилось восхищение: да и действительно, не говоря уже о лихой выходке татарина, принадлежавшей к числу тех опасных затей, которые всегда правятся женщинам, надо было видеть, как он был хорош в эту минуту. Прекрасные черные волосы падали ему на лоб, щеки разрумянились от быстрой езды, глаза блестели и сияли радостью и весельем. Когда он стоял подле Гани, с любопытством глядя ей в глаза, оба они были так красивы, что прекрасней не мог бы создать ни один художник даже в мечтах.
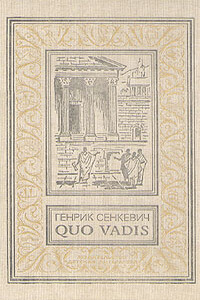
Действие романа развивается на протяжении последних четырех лет правления римского императора Нерона и освещает одну из самых драматических страниц римской и мировой истории. События романа, воссозданные с поразительной исторической убедительностью, знакомят читателей с императором Нероном и его ближайшим окружением, с зарождением христианства.
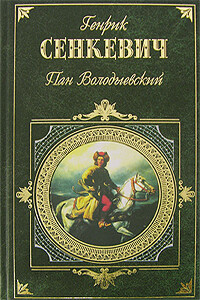
Историческую основу романа «Пан Володыёвский» (1888 г.) польского писателя Генрика Сенкевича (1846–1916) составляет война Речи Посполитой с Османской империей в XVII веке. Центральной фигурой романа является польский шляхтич Володыёвский, виртуозный фехтовальщик, умеющий постоять за свою любовь и честь.

Роман «Огнем и мечом» посвящен польскому феодальному прошлому и охватывает время с конца 40-х до 70-х годов XVII столетия. Действие романа происходит на Украине в годы всенародного восстания, которое привело к воссоединению Украины и России. Это увлекательный рассказ о далеких и красочных временах, о смелых людях, ярких характерах, исключительных судьбах.Сюжет романа основан на историческом материале, автор не допускает домыслов, возможных в литературных произведениях. Но по занимательности оригинальному повороту событий его роман не уступает произведениям Александра Дюма.

Генрик Сенкевич (1846–1916) – известный польский писатель. Начинал работать в газете, с 1876 по 1878 год был специальным корреспондентом в США. К литературному творчеству обратился в 80-х гг. XIX в. Место Сенкевича в мировой литературе определили романы «Огнем и мечом», «Потоп», «Пан Володыевский» и «Крестоносцы», посвященные поворотным событиям в истории его родины. В 1896 г. Сенкевича избрали членом-корреспондентом петербургской Академии наук, а в 1914 он стал почетным академиком. Лауреат Нобелевской премии по литературе за 1905 год. В этом томе публикуется роман «В дебрях Африки», написанный Сенкевичем под впечатлением от собственного путешествия по Африке.

События, к которым обратился Сенкевич в романе «Крестоносцы», имели огромное значение как для истории Польши, так и для соседних с нею славянских и балтийских народов, ставших объектом немецкой феодальной агрессии. Это решающий этап борьбы против Тевтонского ордена, когда произошла знаменитая Грюнвальдская битва 1410 года, сломлено было могущество и приостановлена экспансия разбойничьего государства.
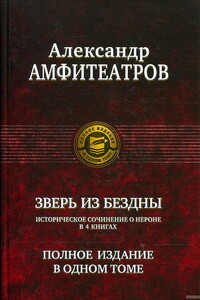
Историческое сочинение А. В. Амфитеатрова (1862-1938) “Зверь из бездны” прослеживает жизненный путь Нерона - последнего римского императора из династии Цезарей. Подробное воспроизведение родословной Нерона, натуралистическое описание дворцовых оргий, масштабное изображение великих исторических событий и личностей, использование неожиданных исторических параллелей и, наконец, прекрасный слог делают книгу интересной как для любителей приятного чтения, так и для тонких ценителей интеллектуальной литературы.
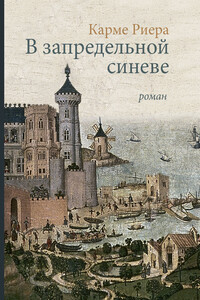
Остров Майорка, времена испанской инквизиции. Группа местных евреев-выкрестов продолжает тайно соблюдать иудейские ритуалы. Опасаясь доносов, они решают бежать от преследований на корабле через Атлантику. Но штормовая погода разрушает их планы. Тридцать семь беглецов-неудачников схвачены и приговорены к сожжению на костре. В своей прозе, одновременно лиричной и напряженной, Риера воссоздает жизнь испанского острова в XVII веке, искусно вплетая историю гонений в исторический, культурный и религиозный орнамент эпохи.
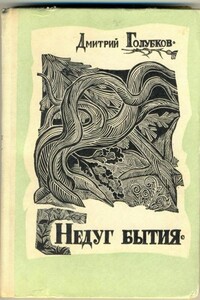
В книге "Недуг бытия" Дмитрия Голубкова читатель встретится с именами известных русских поэтов — Е.Баратынского, А.Полежаева, М.Лермонтова.
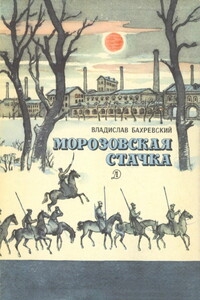
Повесть о первой организованной массовой рабочей стачке в 1885 году в городе Орехове-Зуеве под руководством рабочих Петра Моисеенко и Василия Волкова.

Исторический роман о борьбе народов Средней Азии и Восточного Туркестана против китайских завоевателей, издавна пытавшихся захватить и поработить их земли. События развертываются в конце II в. до нашей эры, когда войска китайских правителей под флагом Желтого дракона вероломно напали на мирную древнеферганскую страну Давань. Даваньцы в союзе с родственными народами разгромили и изгнали захватчиков. Книга рассчитана на массового читателя.

В настоящий сборник включены романы и повесть Дмитрия Балашова, не вошедшие в цикл романов "Государи московские". "Господин Великий Новгород". Тринадцатый век. Русь упрямо подымается из пепла. Недавно умер Александр Невский, и Новгороду в тяжелейшей Раковорской битве 1268 года приходится отражать натиск немецкого ордена, задумавшего сквитаться за не столь давний разгром на Чудском озере. Повесть Дмитрия Балашова знакомит с бытом, жизнью, искусством, всем духовным и материальным укладом, языком новгородцев второй половины XIII столетия.
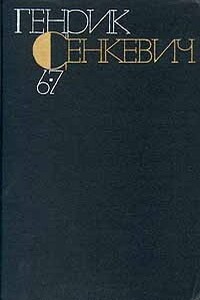
В шестой и седьмой тома Собрания сочинений Генрика Сенкевича (1846—1916) входят социально-психологические романы «Без догмата» (1890) и «Семья Поланецких» (1894).

В третий том Собрания сочинений Генрика Сенкевича (1840—1916) входит 1-я и начало 2-й части исторического романа «Потоп» (1886).

Рассказ впервые опубликован в журнале «Современные записки», Париж, 1926, кн. XXXVIII.Примечания О. Н. Михайлова, П. Л. Вячеславова, О. В. Сливицкой.И. А. Бунин. Собрание сочинений в девяти томах. Том 5. Издательство «Художественная литература». Москва. 1966.