После запятой - [28]
Страдает как. Надо же, не ожидала от него, что он способен так страдать. Он мне всегда казался таким холодным. Но все равно лучше бы он свою любовь тогда проявлял, когда ей это было так нужно, а не мучил бы ее. Сколько она от него перенесла. Вот уж никогда не понимала, что она такого в нем нашла. Я не должна так думать. Особенно сейчас. Она бы этого не простила мне. Но все-таки какие мы все глупые. Я тоже. Если бы знать, что так будет. Сколько раз я сама упускала возможность показать ей, что я… Да что там. Кто же мог подумать, что такое случится. Как мало мы друг о друге думаем, все заняты собой. Господи, если бы все вернуть обратно, хотя бы ненадолго, чтоб я успела ей все сказать и выразить. Сейчас уже для нее конкретно я ничего не смогу сделать. Все, что я ни сделаю, я сделаю для себя. Как бы мне искупить вину перед тобой? Если бы ты могла мне как-то сказать или знак какой-то подать, что ли. Надо бы его как-то успокоить. Она бы не вынесла зрелища таких его страданий. Хотя по мне — пусть узнает, каково страдать. Где он был, когда она мучилась из-за него? Но я должна не о себе думать, а о ней. В конце концов, он тоже человек. Главное, она его любит. То есть любила. Но как мне его утешить хоть немножко? Надо к нему притронуться, мужчин всегда успокаивает прикосновение. Только бы преодолеть барьер, чтоб дотронуться не натужно, а по-настоящему, и без злых мыслей в его адрес, иначе не подействует. Я же не судья. В конце концов, раз она его любила, значит, было за что.
— Ну, не надо, пожалуйста, мужайся. — Ах, ты понимаешь, я… — Да, да, понимаю, понимаю, я тоже это испытываю, ну все, не надо. — Ты должна мне рассказать о ней то, чего я не знаю, ладно? — Хорошо, конечно, все расскажу, хотя ты прав, все равно лучше тебя ее никто не знает, вот сейчас еще немного тут посидим, потом пойдем покурим в коридоре, а то у ее родителей не курят, я обязательно все расскажу, там ничего особенного, понимаешь, так, какие-то отрывочные воспоминания сейчас встают у меня перед глазами, какие-то картинки. Я сейчас вдруг вспомнила, как мы впервые познакомились, это было так смешно. Ты же знаешь, наверное, что мы вместе учились в институте? — Да, конечно. — Но она была на пару курсов младше меня. У них на курсе училась девочка, у которой мама работала на киностудии, и у них там понадобилась массовка для фильма про фашистский концлагерь из молодых девушек» и эта мама договорилась с институтским руководством, чтобы они на один день освободили от занятий студенток, желающих сниматься. Она, конечно, оказалась в их числе. Это надо было видеть, какой она вернулась со съемок! Там режиссер выбрал несколько девушек для первого плана и отослал их в гримерную. Все, естественно, надели тифозные парики, а она вдруг заявила гримерше, что как раз собиралась сходить в парикмахерскую и сделать такую прическу, как на парике, и не могла бы та ее попросту постричь! И что ты думаешь, та согласилась, хотя любую другую послала бы к черту — в конце концов, это лишняя работа, сам понимаешь, в их нагруженной студии, да еще бесплатно. Но ей всегда такие штуки сходили с рук, как я потом неоднократно убеждалась. Более того, все остальные, включая главных героев и режиссера, сидели и ждали, когда ее прическа будет готова. — Это вот таким ежиком, да? — Нет, немножко по-другому, ну знаешь, как отрастают волосы после тифа — такими неровными космами — местами совсем мало, а местами уже космы. Потом весь институт бегал под разными предлогами смотреть на ее прическу, или как бы по делу, или в читальный зал, когда она там сидела. Тогда такие прически были в диковинку, это сейчас они начали входить в моду, и то на улице люди оглядываются. И при этом, как выяснилось, она даже не замечала, что привлекает всеобщее внимание. Когда я ей потом рассказала, что на нее ходили смотреть, она сильно смутилась. — Да, забавно. Вы тогда и познакомились? — Нет, тогда еще нет. Я вот пытаюсь вспомнить, когда же мы познакомились по-настоящему, то есть подружились. Ах да, это случилось, когда она стала ходить в клуб к онанистам! — К кому? — К онанистам — неужели она про них не рассказывала? О Боже мой, что ты так побледнел, да не волнуйся, ради Бога, ничего криминального. Просто у нас в институте были мальчики — они были старше меня курсами, как раз они были на пятом, когда она поступила. Я тогда уже с ними дружила — очень милые мальчики, самые умные и тонкие в нашем институте. Они придумали и учредили где-то курсе на третьем Клуб Онанистов. Все было очень солидно, у них были заседания каждую неделю, с протоколированием и прочими делами, как и полагается поклонникам бога Онана. — Онан хоть и библейский персонаж, но все-таки он не был богом. — Они решили возвести его в ранг бога, считая, что заслужил. Ведь ни у одного бога не нашлось столько горячих приверженцев среди человечества, как у него. Был и девиз клуба: «Все в мире есть онанизм». Заседания проходили в специальной такой клубной комнате, увешанной портретами почетных членов клуба. — Что за комната? — Так она принадлежала президенту клуба, он в ней жил, просто комната в общежитии, все там собирались по вечерам, только во время заседаний посторонних просили ее покинуть. Я помню, как они однажды при мне вырезали из газеты портрет знаменитого дояра из какого-то колхоза, он назывался в статье знатным дояром, что ли, и тоже повесили на стенку. А дояру послали специальное уведомление на адрес колхоза, по-моему, телеграммой, о том, что отныне он является почетным членом Клуба Онанистов. — А что у нее с ними было общего? — Ну как, во-первых, мы все учились в одном институте, а ярких людей у нас, как и везде, было очень мало. Они сразу выделили с их курса ее и еще одного мальчика и одну девочку. У них было такое рыцарское отношение ко всему, что в наши дни редко встречается, они писали стихи — и президент, и остальные члены клуба посвятили ей свои стихи. Да, вспомнила, они называли ее роковой женщиной Клуба Онанистов. — Женщиной? — Ну да, ведь роковых девушек не бывает. Это они как бы предвосхитили. Они обладали даром предугадывать развитие. Так она, может, еще не тянула на роковую женщину, но уж годам к сорока точно могла бы ею стать. Другую девочку с их курса они тоже полюбили и называли коровкой Клуба Онанистов — ну в общем, сейчас она уже ждет четвертого ребенка и, по-моему, не собирается на этом останавливаться. Но главное, что она считает материнство единственным смыслом своей жизни. А тогда, кроме них, никто этого не увидел — девочка как девочка. Но, самое важное, они считали, что очень мало по-настоящему живых людей, что в большинстве своем люди как бы мертвы или спят, и они поставили себе задачу поддерживать людей, которые еще бодрствуют. — Как поддерживать? И как они определяли, кто бодрствует, а кто нет? — Ну, они просто это видели. А поддержать хотели их в этом усилии не спать. — Но как они это делали? — Ну не знаю, всем своим поведением, неужели она не рассказывала о них? — У нас было много других тем для разговора. — Ну они, например, дарили иногда стихи свои, или цветы, или просто какую-нибудь феньку, просто так, не к случаю. То есть они находили какой-нибудь повод, но свой, не общепринятый — за то, что ты сегодня в таком красивом платье, или даже нет, не так банально — за то, что у тебя сегодня зеленый шарфик, или — у меня сегодня был на редкость везучий день — сегодня целых два раза — такого не бывает, в автобусах, которыми я ехал, устраивали проверку билетов, и оба раза я успевал сойти, прежде чем контролер дойдет до меня. А потом, возвращаясь домой, я увидел знакомого, который исчез, но был мне позарез нужен по делу, а потом перед самым домом, на углу, где обычно ничего не бывает, продавали первые фрезии в году, и, когда я их покупал, я еще не знал, что они для тебя. Все это было наивно и романтично, но многое нам дало все-таки. Нам и вправду удалось остаться живыми, ведь далеко не каждый доживает до своей смерти. И потом, мы же тогда были очень молоденькие, и в нашем кругу считалось, что признаками ума и аристократичности у мужчины служат такая хамоватость, пренебрежение к женщине, отсутствие табуированных тем. Нас это коробило, но мы еще не умели постоять за себя должным образом, боялись нарушить правила игры. Легче было сделать вид, что ты ничего не замечаешь, чем проявить слабость и показать, что ты задета. У нас была такая эксцентричная девушка, на моем курсе, она любила выкинуть что-нибудь эдакое, например, пройтись голой при всем честном народе, неестественно громко разговаривать и смеяться, употребляя нецензурные выражения. Но в душе она была очень ранимая, больше, чем кого бы я ни знала, и это у нее была такая форма защиты от возможных обид. При этом была и некоторая доля скоморошества, у нее был очень едкий и острый ум, и она могла иногда высказать какое-нибудь замечание, не очень лестное для адресата, чаще всего в лицо, но все списывалось на ее юродивость и легче переваривалось. Еще она обладала очень редким качеством — быть преданной без оглядки. Если она кого-то признавала за своего, то стояла за него горой. Этот человек уже не мог быть признан виноватым ни в чем, если он с кем-то конфликтовал, она безоговорочно становилась на его сторону, даже не вникая в обстоятельства. Обычно люди относятся так только к себе самим. — Только я хотел сказать… — И картины у нее были вызывающие и страшноватые, но талантливые. Помню, одна называлась «Плач моего нерожденного ребенка». И вот был один тип, такой благополучный сынок высокопоставленного папаши с узкими представлениями, в частности, о том, что разным женщинам можно говорить разные вещи, умозаключения у него строились по чисто внешним признакам — манере одеваться и так далее. Такого ничем не проймешь. Однажды он в присутствии президента сказал что-то очень циничное в адрес этой девушки, не хочу даже вспоминать что, но что-то очень гадкое, и тут президент заметил так спокойно, корректно, но с большой убедительностью что-то вроде того, не помню дословно, что у него возникают сомнения по поводу мужских достоинств человека, способного так отзываться о женщине. Но он сказал намного лучше, так, что даже этого типа проняло и ему стало стыдно. — А из них кто-нибудь есть здесь? — Из кого? — Ну, онанистов этих. — Нет, они, к сожалению, все разъехались по разным концам страны. Мне их часто недостает, я думаю, ей тоже недоставало. Хотя вон та девушка… — Которая? — Вон та, в охрового цвета кофте, с короткой стрижкой. — Да? — Они учились с ней на одном курсе. Эта девушка вышла замуж за одного из активных членов клуба, но его сейчас нет, может, позже подъедет. Погода сегодня такая ужасная, не все решились приехать на кладбище. Хотя я уже и холода не чувствовала, у меня, видимо, шок продолжается. — Да, морозы ударили ведь как раз накануне. — Я вот все думаю, что, когда она ехала, дороги уже, наверное, заледенели, она, наверное, не смогла затормозить. — Тут вообще высказывали гипотезу, что, исходя из положения машины и всего прочего, она не могла ничего нарушить. Скорей всего — ведь было уже темно — ее ослепили, она начала тормозить, машина заскользила и врезалась на ходу в стоящий на обочине грузовик, задев и ослепившую машину. — А его так и не нашли? — Нет, он скрылся, идет розыск, но вряд ли чего добьются, свидетелей ведь не было. — Или они молчат. — Да теперь уже все равно. Даже если найдут виновника, ее уже не вернешь. — Все равно, пусть понесет наказание, чтобы впредь неповадно было. — Тебе-то от этого все одно не будет легче. — Мм, не знаю. Пожалуй, нет. Вот если бы я его нашел, то собственными руками… хотя ее, конечно, это не вернет. Я от этой мысли кого угодно готов собственными руками пришить. Так ваши онанисты, получается, женились тоже? — ничто человеческое… — Там тоже была долгая история. Кроме президента, никто из них не был женат, да и президент совершил эту акцию лет за десять до создания клуба, и семья у него была чисто символическая, они жили в другом городе, и он ездил к ним раза два-три в год на пару дней. А муж этой девушки, когда понял, что влюблен, хотя она очень долго отвергала его любовь, и года два это было абсолютно безнадежно, но с того момента, когда он понял, то написал заявление в свой клуб с просьбой исключить его из членства, потому что с такого-то часа такого-то дня такого-то года он начал считать, что не все в мире есть онанизм. Ну и было заседание, все как полагается, и на общем совете решили, что хоть и прискорбно терять такого члена, но все же человек с подобными взглядами не может состоять в клубе, и его исключили. — М-да… — А мне? — Что? — Я тоже хочу выпить. — Ох, извини, пожалуйста, я задумался. Водки? — Да.

Действие романа разворачивается во время оккупации Греции немецкими и итальянскими войсками в провинциальном городке Бастион. Главная героиня книги – девушка Рарау. Еще до оккупации ее отец ушел на Албанский фронт, оставив жену и троих детей – Рарау и двух ее братьев. В стране начинается голод, и, чтобы спасти детей, мать Рарау становится любовницей итальянского офицера. С освобождением страны всех женщин и семьи, которые принимали у себя в домах врагов родины, записывают в предатели и провозят по всему городу в грузовике в знак публичного унижения.

После восемнадцати лет отсутствия Джек Тернер возвращается домой, чтобы открыть свою юридическую фирму. Теперь он успешный адвокат по уголовным делам, но все также чувствует себя потерянным. Который год Джека преследует ощущение, что он что-то упускает в жизни. Будь это оставшиеся без ответа вопросы о его брате или многообещающий роман с Дженни Уолтон. Джек опасается сближаться с кем-либо, кроме нескольких надежных друзей и своих любимых собак. Но когда ему поручают защиту семнадцатилетней девушки, обвиняемой в продаже наркотиков, и его врага детства в деле о вооруженном ограблении, Джек вынужден переоценить свое прошлое и задуматься о собственных ошибках в общении с другими.
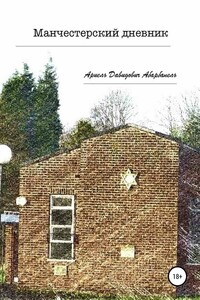
Повествование ведёт некий Леви — уроженец г. Ленинграда, проживающий в еврейском гетто Антверпена. У шамеша синагоги «Ван ден Нест» Леви спрашивает о возможности остановиться на «пару дней» у семьи его новоявленного зятя, чтобы поближе познакомиться с жизнью английских евреев. Гуляя по улицам Манчестера «еврейского» и Манчестера «светского», в его памяти и воображении всплывают воспоминания, связанные с Ленинским районом города Ленинграда, на одной из улиц которого в квартирах домов скрывается отдельный, особенный роман, зачастую переполненный болью и безнадёжностью.

Что скрывается за той маской, что носит каждый из нас? «Воображаемые жизни Джеймса Понеке» – роман новозеландской писательницы Тины Макерети, глубокий, красочный и захватывающий. Джеймс Понеке – юный сирота-маори. Всю свою жизнь он мечтал путешествовать, и, когда английский художник, по долгу службы оказавшийся в Новой Зеландии, приглашает его в Лондон, Джеймс спешит принять предложение. Теперь он – часть шоу, живой экспонат. Проводит свои дни, наряженный в национальную одежду, и каждый за плату может поглазеть на него.

Село Белогорье. Храм в честь иконы Божьей Матери «Живоносный источник». Воскресная литургия. Молитвенный дух объединяет всех людей. Среди молящихся есть молодой парень в инвалидной коляске, это Максим. Максим большой молодец, ему все дается с трудом: преодолевать дорогу, писать письма, разговаривать, что-то держать руками, даже принимать пищу. Но он не унывает, старается справляться со всеми трудностями. У Максима нет памяти, поэтому он часто пользуется словами других людей, но это не беда. Самое главное – он хочет стать нужным другим, поделиться своими мыслями, мечтами и фантазиями.

Скорее рассказ, чем книга. Разрушенные представления, юношеский максимализм и размышления, размышления, размышления… Нет, здесь нет большой трагедии, здесь просто мир, с виду спокойный, но так бурно переживаемый.