Послание к Римлянам - [10]
убеждения), как быстро он одновременно способен (если это не удается в мгновение ока) расчетливо совершить спасение паулинистичес-кого корабля и переложить ответственность за смысл текста на «личность» Павла, на «событие Дамаска», якобы объясняющее все самое невероятное, на иудаизм, эллинизм, античность вообще и на другие полубожества. «Позитивно» ориентированные экзегеты счастливее своих «либеральных» коллег лишь в том случае, если более или менее сильная ортодоксия или другое исторически связанное христианство, к которому они пытаются возвратиться, есть все же нечто более основательное и значительное, чем религия совести «культурных протестантов». В принципе это означает лишь то, что недостаток упорного желания понимать и толковать они скрывают немного лучше. В отличие от них я полагаю, что эта первая примитивная попытка перефразирования и все связанное с ней может представлять собой лишь отправную точку для существенной обработки текста, производимой с помощью мощных инструментов неумолимого и эластичного диалектического движения. Мне кажется, что сторонники историкокритического метода должны быть более критичными! Ибо невозможно определить, как же необходимо понимать «написанное» путем несвязной, определенной с некоей случайной позиции экзегета оценки слов и словесных групп текста, это можно сделать лишь путем по возможности свободного и связного подхода к внутренней динамике понятий, предлагаемых текстом с большей или меньшей ясностью. Kpiveiv означает для меня, будучи прилагаемым к историческому документу, соотношение всех содержащихся в нем слов и словесных групп с предметом, о котором они, если мы не обманываемся, ясно говорят, означает обратную связь со всеми данными в них ответами на бесспорно поставленные ими вопросы и все вместе - на заключающий в себе все вопросы кардинальный вопрос; означает толкование всего того, что говорит документ, в свете того, что только и может быть сказано и поэтому действительно только и говорится. Необходимо оставить как можно меньше от всех этих блоков лишь исторических, лишь данных, лишь случайных определений и как можно яснее раскрыть связь слов со Словом в словах. Как понимающий я должен дойти до той точки, где я нахожусь практически только перед загадкой предмета, а не перед загадкой документа как такового, где я почти забываю, что я - не автор, где я практически полностью понял, что могу дать автору говорить от моего имени и сам могу говорить от его имени. Я знаю, что эти слова вызовут шквал критики, но я не понимаю, что же тогда называть «пониманием» и «толкованием» -задавался ли, к примеру, Литцман вообще серьезно этим вопросом? -если человек почти не намеревается прилагать усилия в этом направлении (а на большее он не способен), хотя он одновременно являет такое поразительное усердие в другом направлении, но довольствуется самым скудным и видит в этом триумф истинной научности? Разве эти ученые, которых я действительно уважаю как историков, не знают, что в словах заключен предмет, кардинальный вопрос, высказывание? Разве они не знают, что есть тексты, например тексты Нового Завета, заставить говорить которые - чего бы это ни стоило - есть высшее и глубочайшее дело (если здесь вообще можно использовать это слово)? Разве они не знают, что церковное будущее их студентов ставит перед ними не только практический, но и в высшей степени онтологический вопрос? Я знаю, что такое из года в год восходить на церковную кафедру для проповеди: я должен и желаю понимать и толковать, но все же не могу, потому что в университете нас не научили практически ничему, кроме знаменитого «благоговения перед историей», которое, несмотря на красивый оборот речи, означает лишь отказ от любого серьезного благоговейного понимания и толкования. Действительно ли историки полагают, что они тем самым исполнили свой долг по отношению к человеческому обществу, что они re bene gesta (лат. хорошо выполнив дело. - Прим. пер.) в пятом томе предоставляют слово Нибергаллу (Niebergall)? Да, в силу моих обязанностей священника я пришел к необходимости того, чтобы острее воспринимать Библию в моем желании понимания и толкования, но разве находящиеся в лагере профессиональных новозаветников действительно считают, что это - дело «практического богословия», как это вновь высказал Юлихер в мой адрес с закоснелой и неслыханной уверенностью? Я не «пневматик», как он меня назвал. Я не «ярый противник исторической критики». Я знаю, что проблема не проста. Но когда это также осознают с противоположной стороны и поэтому будут говорить об этом с большей готовностью к покаянию, можно будет рассчитывать на взаимопонимание, наряду с явными для меня сложностями и опасностями того, что я называю критическим богословием, и стремлением по возможности избежать их. Но не ранее.
Что же я имею в виду, называя внутреннюю диалектику предмета и ее осознание в тексте решающим фактором понимания и толкования? Мне говорят (один швейцарский рецензент выразил это особо неуклюже), что тем самым, конечно, может подразумеваться только моя «система». Подозрение в том, что я больше скрываю, чем раскрываю, является наиболее близким из всего того, что можно сказать об этой моей попытке. По этому поводу я должен заметить следующее. Если у меня есть «система», то она состоит в следующем: я по возможности всегда учитываю то, что Кьеркегор назвал «бесконечной качественной разницей» между временем и вечностью. «Бог на небе, а ты -на земле». Отношение этого Бога к этому человеку и отношение этого человека к этому Богу является для меня одновременно темой Библии и суммой философии. Философы называют этот кризис человеческого познания первопричиной. Библия видит в нем Крестный путь Иисуса Христа. Если я приступаю к тексту, подобному Посланию к Римлянам, то я делаю это с тем предварительным допущением, что Павел, создавая свои понятия, по крайней мере так же строго, как и я, учитывал простое и беспредельное значение этих отношений, если я усердно и внимательно пытаюсь осмыслить его понятия, то я делаю это подобно тому, как любой другой экзегет приступает к тексту с некоторыми предварительными условиями, например, принимая положение, что Послание к Римлянам действительно было написано Павлом в I веке. Выдерживают ли испытание такие предпосылки, может обнаружиться (как и в случае любых предпосылок) только в акте, то есть в этом случае - в точном исследовании и осмыслении текста стих за стихом, и само собой разумеется, что при этом испытании речь всегда может идти лишь об относительном, более или менее определенном испытании, и этому правилу, естественно, подвержена и моя предпосылка. Если я предполагаю, что Павел действительно говорил в Послании к Римлянам об Иисусе Христе, а не о чем-то другом, то это прежде всего - допущение, такое же хорошее или плохое, как и любое другое допущение историков. Только толкование может решить, удается ли мне, и если да, то насколько, подтвердить мое допущение. Если оно ложно, если Павел действительно говорил не о перманентном кризисе времени и вечности, то по ходу его текста я сам приду ad absurdum (лат. к абсурду. - Прим. пер.). Конечно, если задаться и дальнейшим вопросом, на каком основании я приступаю к Посланию к Римлянам именно с этим допущением, то я отвечу встречным вопросом: разве какой-нибудь серьезный человек может приступить к такому серьезному тексту с каким-то иным допущением, кроме того, что Бог - это Бог? И если меня будут упорно обвинять в том, что я совершаю насилие над Павлом с помощью такого допущения, то я должен выдвинуть встречное обвинение: совершать насилие над Павлом - это давать ему возможность говорить якобы об Иисусе Христе, но в действительности же - о настоящем антропософском хаосе абсолютной относительности и относительной абсолютности, как раз о том хаосе, для обозначения которого он во всех своих посланиях обычно использовал только выражения гневного отвращения. Я никоим образом не считаю, что я все удовлетворительно истолковал, но я не нашел и повода для того, чтобы отойти от моего допущения. Павел знает о Боге нечто такое, чего мы обычно не знаем, но вполне могли бы знать это. Я знаю то, что Павел знает это, - и это моя «система», мои «догматические предпосылки», мой «александризм», или как бы ни соблаговолили все это называть. Я обнаружил, что таким образом, в том числе и с историко-критической точки зрения, возможно наилучшее продвижение вперед. Современные образы Павла кажутся мне, как и некоторым другим, более абсолютно недостоверными с исторической точки зрения. Многочисленные намеки на современные явления и проблемы имеют лишь пояснительное значение. Я не стремился высказаться по этому поводу, но попытался понять и истолковать Послание к Римлянам. С основным положением моего толкования связано непонимание того, почему исторические параллели, которые в других комментариях занимают почти всю книгу, должны быть более назидательными, чем процессы, свидетелями которых мы сами являемся.

В коротких отрывках, собранных в «Мгновениях», Барт ярко и неожиданно говорит о Боге и мире, о вере и жизни, освещая вечные вопросы с новой стороны. Это тексты, которые направляют; тексты для размышления; «путеводитель по жизни», помощь и поддержка на каждый день; это пропилеи к творчеству Карла Барта.

Швейцарский протестантский богослов Карл Барт (1886–1968) написал эту работу на излете академической карьеры, первоначально она была конспектом его лекций. В книге автор размышляет о том, что значит быть теологом и какова природа евангелической теологии. Он считал эту книгу своей «лебединой песнью», кратким отчетом в том, чему он учил и что отстаивал в области евангелической теологии.Книга впервые публикуется на русском языке и будет интересна студентам богословских учебных заведений, служителям церквей и всем, кого интересуют богословие и религиоведение.«Теология — это одна из тех, обычно именуемых "науками" человеческих попыток воспринята некий предмет или предметную облаете как феномен, причем тем способом, который они задают сами, понятв их смысл, описать их во всем многообразии их существовав На обложке использован фрагмент триптиха М.
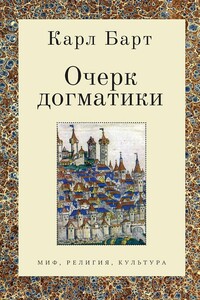
Карл Барт (1886–1968) — один из крупнейших религиозных мыслителей нашего времени, классик протестантской теологии XX века, автор фундаментального девятитомного труда «Церковная догматика». Лекции, положенные в основу «Очерка догматики», предназначались широкой студенческой аудитории — не слишком искушенным в вопросах теологии слушателям, что сделало книгу доступной и неподготовленному, но интересующемуся христианской догматикой читателю.

Книга посвящена исследованию вопроса о корнях «сергианства» в русской церковной традиции. Автор рассматривает его на фоне биографии Патриарха Московского и всея Руси Сергия (Страгородского; 1943–1944) — одного из самых ярких и противоречивых иерархов XX столетия. При этом предлагаемая вниманию читателей книга — не биография Патриарха Сергия. С. Л. Фирсов обращается к основным вехам жизни Патриарха лишь для объяснения феномена «сергианства», понимаемого им как «новое издание» старой болезни — своего рода извращенный атеизмом «византийский грех», стремление Православной Церкви найти себе место в политической структуре государства и, одновременно, стремление государства оказывать влияние на ход внутрицерковных дел. Книга адресована всем, кто интересуется историей Русской Православной Церкви, вопросами взаимоотношений Церкви и государства.
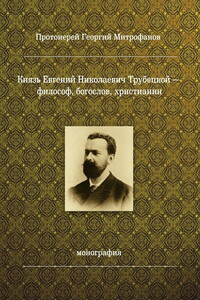
Монография протоиерея Георгия Митрофанова, известного историка, доктора богословия, кандидата философских наук, заведующего кафедрой церковной истории Санкт-Петербургской духовной академии, написана на основе кандидатской диссертации автора «Творчество Е. Н. Трубецкого как опыт философского обоснования религиозного мировоззрения» (2008) и посвящена творчеству в области религиозной философии выдающегося отечественного мыслителя князя Евгения Николаевича Трубецкого (1863-1920). В монографии показано, что Е.

Книга отражает некоторые результаты исследовательской работы в рамках международного проекта «Христианство и иудаизм в православных и „латинских» культурах Европы. Средние века – Новое время», осуществляемого Центром «Украина и Россия» Института славяноведения РАН и Центром украинистики и белорусистики МГУ им. М.В. Ломоносова. Цель проекта – последовательно сравнительный анализ отношения христиан (церкви, государства, образованных слоев и широких масс населения) к евреям в странах византийско-православного и западного («латинского») цивилизационного круга.
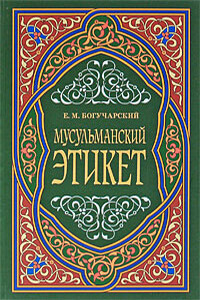
Если вы налаживаете деловые и культурные связи со странами Востока, вам не обойтись без знания истоков культуры мусульман, их ценностных ориентиров, менталитета и правил поведения в самых разных ситуациях. Об этом и многом другом, основываясь на многолетнем дипломатическом опыте, в своей книге вам расскажет Чрезвычайный и Полномочный Посланник, почетный работник Министерства иностранных дел РФ, кандидат исторических наук, доцент кафедры дипломатии МГИМО МИД России Евгений Максимович Богучарский.

Постсекулярность — это не только новая социальная реальность, характеризующаяся возвращением религии в самых причудливых и порой невероятных формах, это еще и кризис общепринятых моделей репрезентации религиозных / секулярных явлений. Постсекулярный поворот — это поворот к осмыслению этих новых форм, это движение в сторону нового языка, новой оптики, способной ухватить возникающую на наших глазах картину, являющуюся как постсекулярной, так и пострелигиозной, если смотреть на нее с точки зрения привычных представлений о религии и секулярном.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.