«Портрет на фоне мифа» и его критики - [5]
Она воспроизводит структуру начала книги или, как говорит, выстроенные писателем декорации. Я ничего не имею против структурного анализа, но убежден, что только его инструментарий не даст представления ни о содержательности книги, ни о творческой манере писателя. Приведу пример ее структурирования начала книги: квартира Саца ("отмечено, что у Саца в квартире нет сортира"), шутка Саца о Луначарском, поддерживающая "мотив отправления нужды (дерьма и мочи)", появление пьяноватого Твардовского в испачканном мелом ратиновом пальто, который "пьет водку и читает вслух старому Сацу и молодому В. В. повесть А. Рязанского". И дальше: "Вывод В. В.: "…яснее становилось, что произошло событие, которое многими уже предвкушалось: в нашу литературу явился большой, крупный, может быть, даже великий писатель". Особенным образом здесь стоит одно слово. Понятно какое? Даже (курсив Н. Ивановой. — Г. К.). Оно-то и продолжает намеченную интригу, перенося через череду вполне пафосных (и вполне заслуженных Солженицыным) обманных эпитетов (ибо В. В. пафоса, как читатель заметил, не выносит и не выносил никогда) дальнейшему. А дальнейшее, после декораций и в контексте впечатления от повести А. Рязанского, — это Солженицын особой, войновичской, выделки, плод его взгляда и его оценки".[15]
Что ж, последовательность эпизодов пересказана верно. А "вывод В. В." перетолкован как раз вопреки его тексту:
""В пять часов утра, — начал Твардовский негромко, со слабым белорусским акцентом, — как всегда пробило подъ
ем — молотком об рельс штабного барака. Прерывистый звон слабо прошел сквозь стекла, намерзшие в два пальца, и скоро затих: холодно было, и надзирателю неохота была долго рукой махать…"
Таких начал даже в большой русской литературе немного. Их волшебство в самой что ни на есть обыкновенности слов, в простоте, банальности описания, к таким я отношу, например, строки: "В холодный ноябрьский вечер Хаджи-Мурат въезжал в курившийся душистым кизячным дымом чеченский немирный аул Макхет". Или (другая поэтика) в чеховской "Скрипке Ротшильда": "Городок был маленький, хуже деревни, и жили в нем почти одни только старики, которые умирали так редко, что даже досадно". Или вот в «Школе» Аркадия Гайдара (что бы ни говорили теперь, талантливый был писатель): "Городок наш Арзамас был тихий, весь в садах…"
Такие начала как камертон, дающий сразу верную ноту. Они завораживают читателя, влекут и почти никогда не обманывают.
Твардовский читал, и чем дальше, тем яснее становилось, что произошло событие, которое многими уже предвкушалось: в нашу литературу явился большой, крупный, может быть, даже великий писатель".
Да, Войнович не выносит пафоса. Он и сейчас верен себе. Только что рассказывал о нищем советском быте, о тех, кто к автору относятся с симпатией, к кому он относится с симпатией, об их смешных чертах, об их слабостях ("Для чего?" — настойчиво спрашивает Н. Иванова. Я постараюсь ответить на этот вопрос). И вот — шутки в сторону: речь о зачарованности, которая и есть главный мотив этого эпизода. Войнович честен. Он и не собирается скрывать, какую художественную мощь ощутил, слушая "Ивана Денисовича". Недаром рассказывает, как сразу же "под впечатлением только что услышанного шедевра" выгнал из такси своего случайного попутчика, оказавшегося сталинистом, хотя, как признается, подобные поступки ему не были свойственны.
А теперь отвечу на вопрос, который многажды задает Н. Иванова: а для чего Войновичу все эти приземленные и порой уничижительные подробности в "выстроенных писателем декорациях"? Не для того, чтобы снять пафос или высмеять ситуацию. Как раз нет. Писателю это нужно для того, чтобы воспроизвести жизнь во всем ее многообразии и противоречивости. И тут у него есть великолепные учителя и предшественники.
Иванова настаивает на односторонности дарования Войновича, называя его пересмешником, скоморохом, человеком, который в любой стране, в любое время раздражал бы серьезных проповедников и, возможно, даже был бы сожжен в Средние века. Такое представление о Войновиче мне кажется удивительным. Да, он сам написал о цели, которую преследовал в "Москве 2042": "…для меня важной особенностью этого романа было пересмешничество". Но разве это единственная его вещь? Есть у него повесть "Путем взаимной переписки", в котором нет никакого «скоморошества», а лишь боль, ужас и сострадание. Или "Два товарища", где пересмешничества при всем желании не отыщешь. Или рассказ "Хочу быть честным", написанный в русле прозы "Нового мира" времен Твардовского и сразу принесший Войновичу известность.
Все эти вещи, на мой взгляд, легко вписываются в чеховскую традицию, которая не могла не оставить свои следы и в сатирических или пародийных произведениях Войновича, таких, как «Шапка», «Иванькиада», даже в «Чонкине».
Да, «Чонкин» ближе к Гашеку (а местами к Гоголю), да, «Шапка» или «Иванькиада» ближе к Марку Твену (а к обоим этим произведениям близка проза Сергея Довлатова). Согласен, Войнович обладает и даром пересмешника, то есть пародиста, что блистательно подтвердила недавняя его пародия на советский гимн. Но серьезный читатель и в войновичской сатире различит присущие русской литературе "невидимые миру слезы".
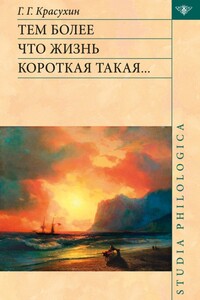
Это наиболее полные биографические заметки автора, в которых он подводит итог собственной жизни. Почти полвека он работал в печати, в том числе много лет в знаменитой «Литературной газете» конца 1960-х – начала 1990-х годов. Четверть века преподавал, в частности в Литературном институте. Нередко совмещал то и другое: журналистику с преподаванием. На страницах книги вы встретитесь с известными литераторами, почувствуете дух времени, которое видоизменялось в зависимости от типа государства, утверждавшегося в нашей стране.
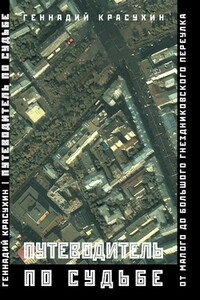
Новая книга воспоминаний Геннадия Красухина сочетает в себе рассказ о литературных нравах недавнего прошлого с увлекательным повествованием о тех кусочках старой Москвы, с которыми автора надолго связала судьба.Электронная версия данного издания является собственностью издательства, и ее распространение без согласия издательства запрещается.
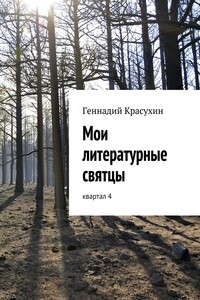
Автор этой книги потому и обратился к форме литературного календаря, что практически всю жизнь работал в литературе: больше 40 лет в печатных изданиях, четверть века преподавал на вузовской кафедре русской литературы. Разумеется, это сказалось на содержании книги, которая, сохраняя биографические данные её героев, подчас обрисовывает их в свете приглядных или неприглядных жизненных эпизодов. Тем более это нетрудно было сделать автору, что со многими литераторами он был знаком.
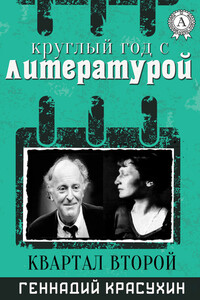
Больше сорока лет автор работал в литературной печати. Из них 27 лет с 1967 по 1995 в «Литературной газете», которую вместе с другими своими коллегами начинал как шестнадцатиполосное издание, какое в то время обрело бешеную популярность. 12 лет – с 1992 по 2006 автор возглавлял газету для учителей «Литература» Издательского дома «Первое сентября». Доводилось работать автору и редактором сценарной коллегии Государственного Комитета по кинематографии СССР, входить в редакционную коллегию журнала «Вопросы литературы.
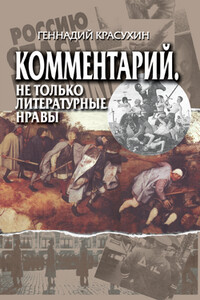
Новые мемуары Геннадия Красухина написаны как комментарий к одному стихотворению. Что это за стихотворение и почему его строки определили построение книги, читатель узнает на первых страницах. А каким образом долгая работа в «Литературной газете» и в других изданиях, знакомство с известными писателями, воспоминания и размышления о вчерашней и сегодняшней жизни переплетаются с мотивами стихотворения, автор которого годится автору книги во внуки, раскрывает каждая её глава.Дневниковая основа мемуаров потребовала завершить рассказ о происходящем, каким оно сложилось к 9 декабря 2006 года, когда в книге была поставлена точка.
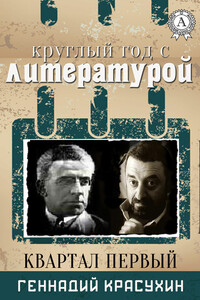
Автор этой книги, как и трёх остальных, представляющих собою кварталы года, доктор филологических наук, профессор, член Союза писателей с 1972 года и Союза журналистов с 1969-го. Перед вами литературный календарь. Рассчитанный не только на любителей литературы, но и на тех, кто любит такие жанры, как мемуаристика, как научно-популярные биографии писателей, типа тех, что издаются в серии «Жизнь замечательных людей». Естественно, что многих, о ком здесь написано, автор знал лично. И это обстоятельство сообщило календарным заметкам отчасти мемуарный характер.

Сюжет новой книги известного критика и литературоведа Станислава Рассадина трактует «связь» государства и советских/русских писателей (его любимцев и пасынков) как неразрешимую интригующую коллизию.Автору удается показать небывалое напряжение советской истории, сказавшееся как на творчестве писателей, так и на их судьбах.В книге анализируются многие произведения, приводятся биографические подробности. Издание снабжено библиографическими ссылками и подробным указателем имен.Рекомендуется не только интересующимся историей отечественной литературы, но и изучающим ее.

Оригинальное творчество Стендаля привлекло внимание в России задолго до того, как появился его первый знаменитый роман – «Красное и черное» (1830). Русские журналы пушкинской эпохи внимательно следили за новинками зарубежной литературы и периодической печати и поразительно быстро подхватывали все интересное и актуальное. Уже в 1822 году журнал «Сын Отечества» анонимно опубликовал статью Стендаля «Россини» – первый набросок его книги «Жизнь Россини» (1823). Чем был вызван интерес к этой статье в России?Второе издание.

В 1838 году в третьем номере основанного Пушкиным журнала «Современник» появилась небольшая поэма под названием «Казначейша». Автором ее был молодой поэт, чье имя стало широко известно по его стихам на смерть Пушкина и по последующей его драматической судьбе — аресту, следствию, ссылке на Кавказ. Этим поэтом был Михаил Юрьевич Лермонтов.

Книга посвящена пушкинскому юбилею 1937 года, устроенному к 100-летию со дня гибели поэта. Привлекая обширный историко-документальный материал, автор предлагает современному читателю опыт реконструкции художественной жизни того времени, отмеченной острыми дискуссиями и разного рода проектами, по большей части неосуществленными. Ряд глав книг отведен истории «Пиковой дамы» в русской графике, полемике футуристов и пушкинианцев вокруг памятника Пушкину и др. Книга иллюстрирована редкими материалами изобразительной пушкинианы и документальными фото.

В книге известного историка литературы, много лет отдавшего изучению творчества М. А. Булгакова, биография одного из самых значительных писателей XX века прочитывается с особым упором на наиболее сложные, загадочные, не до конца проясненные моменты его судьбы. Читатели узнают много нового. В частности, о том, каким был путь Булгакова в Гражданской войне, какие непростые отношения связывали его со Сталиным. Подробно рассказана и история взаимоотношений Булгакова с его тремя женами — Т. Н. Лаппа, Л. Е. Белозерской и Е. С. Нюренберг (Булгаковой).

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.