Помпеи - [29]
В предвыборной агитации важным человеком был писец-каллиграф, которого нанимали делать надписи. Такому специалисту часто приходилось прибегать к помощи штукатура: дело в том, что надписи, делавшиеся для выборов, оставались по окончании их нетронутыми. Перед новыми же выборами их закрывали слоем свежей штукатурки, по которой писец и выводил затем новую надпись. Археологи получили, благодаря этому обычаю, возможность прочесть не только предвыборные надписи 79 г., но и более старые, которые удалось открыть, осторожно снимая последовательные слои штукатурки. Таким образом, обнаружены были надписи еще от времен республики: их можно сразу отличить по форме букв, более массивных. Сохранилась интересная фреска, изображающая штукатура за работой (рис. 16): молодой человек, одетый в тунику, босиком, с непокрытой головой, трудится, стоя на легких переносных козлах; в руках у него инструмент для штукатуренья; рядом на козлах стоят две посудины с материалом. Без помощи штукатура писцу сплошь и рядом нельзя было обойтись; недаром же штукатуры, как, например, грек Онисим, требовали иногда, чтобы об их работе было упомянуто в надписи.
Рис. 16.
Мы знаем имена нескольких писцов: Инфантион, Флор, Фрукт, Парис, Протоген, Аскавл. Судя по их именам, среди них было много греков. Не всегда бывает легко определить их социальную принадлежность: среди них могли быть и свободные люди, и рабы, и вольноотпущенники. Эти писцы любили проставлять под надписью свои имена. Служило это одновременно и удовлетворению гордости мастера, и целям рекламы: каждый мог видеть, кто же именно был создателем такой превосходной работы. В последние годы жизни Помпей особенной известностью пользовался писец Инфантион: он работал на Попидия, Куспия Пансу и Церинния Ватию. Работал он с артелью, товарищами его и подручными были Флор, Фрукт и Сабин, — любопытный пример античного ремесленного объединения.
Рис. 17.
Помпейские писцы были не только мастерами каллиграфии — они были подлинными знатоками рекламного дела. Белая полоса штукатурки, иногда еще как бы вставленная в рамку, заставляла надпись словно выступать из стены; крупные, отчетливо выписанные буквы так и бросались в глаза (рис. 17). Опытный писец умел искусно скомпоновать надпись: имя кандидата, на котором необходимо было сосредоточить основное внимание, он ставил на первом месте, причем выводил его часто буквами значительно более крупными, чем все остальное, иногда достигавшими величины 10, 15, 19 см. Остальная часть надписи выполнялась шрифтом гораздо более мелким, порой даже миллиметровым. В узких помпейских улочках от таких надписей некуда было деваться: они внушали, настаивали, приказывали. И думается, среди помпейских граждан оказывалось, вероятно, немало таких, которые отдавали свои голоса тому или иному кандидату просто потому, что имя выдвигаемого человека неотвязно стояло у них перед глазами.
Глава VI
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ТОРГОВЛЯ
Помпеи были маленьким, но бойким городком с оживленной торговлей и промышленностью, некоторые отрасли которой достигли такого развития, что снабжали своей продукцией не только местный рынок, но и рынки более отдаленные: излюбленный древними гастрономами рыбный соус, так называемый гарум, изготовлялся в Помпеях чуть ли не на всю Италию; помпейские сукновалы одевали и Кампанию и Самний; обилие лавы натолкнуло местных жителей на изготовление жерновов, и уже Катон[41] (середина II в. до н. э.) рекомендовал покупать трапеты (особого вида мельницы, разминавшие маслины перед тем как их класть под пресс) у помпейских каменотесов. Некоторые виды промышленности обслуживали, главным образом, местного потребителя; к ним, в первую очередь, относилось хлебопечение. Помпеи могли сами себя и прокормить и одеть; из окрестных имений, густо расположенных вокруг города, сюда везли всяческое продовольствие: хлеб, овощи, фрукты, оливковое масло, вино. В усадьбах, расположенных ближе к Стабиям, жали главным образом масло; к северу от Помпей приготовляли преимущественно вино. Вся эта местность представляла собой почти сплошной виноградник. Сохранилась помпейская фреска, на которой изображен на фоне Везувия Вакх,[42] весь в виноградных гроздьях, как в плаще. Помпейские вина не принадлежали к числу первосортных, но местные жители, видимо, любили «влагу Везувия» (таково было название одного из самых распространенных сортов местного вина) и вполне ею удовлетворялись. Привозное вино пили редко; вряд ли случайным было то обстоятельство, что среди надписей на винной посуде, битой и целой, названия греческих сортов вин упоминают редко и очень мало вин даже из других мест Кампании>{13}. Рыбу в изобилии давало море; мясо и сыр — овечьи стада, которые держал почти каждый сельский хозяин. Они же давали и шерсть, которой помпейским текстильщикам не хватало, так что они еще покупали ее в Самнии[43] и в Апулии.[44] Привозными товарами были, главным образом, разная утварь (арретинская посуда,[45] черепки которой находят и в самих Помпеях, и в окрестных усадьбах), бронзовые изделия из Капуи, железные инструменты и орудия из Путеол. Нам знакомы далеко не все отрасли помпейской промышленности; мы, например, ничего не знаем о помпейских жерновщиках. Довольно богатым материалом располагаем мы по вопросу производства сукон, изготовления гарума и хлебопечения. На этих отраслях мы и остановимся.
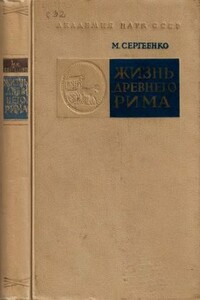
Книга историка античности М. Е. Сергеенко создана на основе лекций, прочитанных автором в 1958–1961 гг., впервые вышла в свет в 1964 г. под эгидой Академии наук СССР и сразу же стала одним из основных пособий для студентов-историков, специализирующихся на истории Рима.Работа, в основном, посвящена повседневной жизни Рима и его жителей. М. Е. Сергеенко подробно рассматривает археологические находки, свидетельства античных авторов и другие памятники для воссоздания обычаев и мировоззрения древнеримского народа.Сугубо научный по рассматриваемому материалу, текст книги, тем не менее, написан доходчиво, без перегруженности специальной терминологией, так как автор стремился ознакомить нашего читателя с бытом, с обыденной жизнью древнего Рима — ведь без такового нельзя как следует понять ни римскую литературу, ни историю Рима вообще.
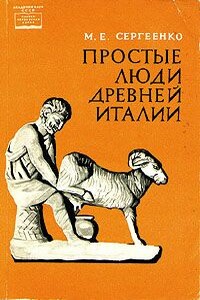
В распоряжении читателя имеется ряд книг, которые знакомят его с фактической историей древнего Рима, с его экономической и социальной жизнью, с крупными деятелями тех времен. Простые люди мелькают в этих книгах призрачными тенями. А между тем они, эти незаметные атланты, держали на себе все хозяйство страны и без них Римское государство не продержалось бы и одного дня. Настоящая книга и ставит себе задачей познакомить читателя с некоторыми категориями этих простых людей, выделив их из безликой массы рабов, солдат и ремесленников.М.Е.
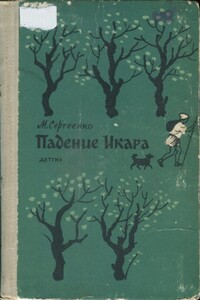
Второй век до новой эры. Власть в Риме захватил беспощадный диктатор Сулла. Он жестоко преследует своих противников, все неугодные занесены в особые списки — проскрипции, и каждый из них может в любой момент поплатиться жизнью. С драматическими событиями той поры тесно переплелась судьба главного героя повести — маленького Никия. О его приключениях, жизни, полной лишений, вы прочтете в этой книге. Написала ее Мария Ефимовна Сергеенко, доктор исторических наук, автор многих научных трудов по истории древного мира.

Что же означает понятие женщина-фараон? Каким образом стал возможен подобный феномен? В результате каких событий женщина могла занять египетский престол в качестве владыки верхнего и Нижнего Египта, а значит, обладать безграничной властью? Нужно ли рассматривать подобное явление как нечто совершенно эксклюзивное и воспринимать его как каприз, случайность хода истории или это проявление законного права женщин, реализованное лишь немногими из них? В книге затронут не только кульминационный момент прихода женщины к власти, но и то, благодаря чему стало возможным подобное изменение в ее судьбе, как долго этим женщинам удавалось удержаться на престоле, что думали об этом сами египтяне, и не являлось ли наличие женщины-фараона противоречием давним законам и традициям.

От издателя Очевидным достоинством этой книги является высокая степень достоверности анализа ряда важнейших событий двух войн - Первой мировой и Великой Отечественной, основанного на данных историко-архивных документов. На примере 227-го пехотного Епифанского полка (1914-1917 гг.) приводятся подлинные документы о порядке прохождения службы в царской армии, дисциплинарной практике, оформлении очередных званий, наград, ранений и пр. Учитывая, что история Великой Отечественной войны, к сожаления, до сих пор в значительной степени малодостоверна, автор, отбросив идеологические подгонки, искажения и мифы партаппарата советского периода, сумел объективно, на основе архивных документов, проанализировать такие заметные события Великой Отечественной войны, как: Нарофоминский прорыв немцев, гибель командарма-33 М.Г.Ефремова, Ржевско-Вяземские операции (в том числе "Марс"), Курская битва и Прохоровское сражение, ошибки при штурме Зееловских высот и проведении всей Берлинской операции, причины неоправданно огромных безвозвратных потерь армии.

“Последнему поколению иностранных журналистов в СССР повезло больше предшественников, — пишет Дэвид Ремник в книге “Могила Ленина” (1993 г.). — Мы стали свидетелями триумфальных событий в веке, полном трагедий. Более того, мы могли описывать эти события, говорить с их участниками, знаменитыми и рядовыми, почти не боясь ненароком испортить кому-то жизнь”. Так Ремник вспоминает о времени, проведенном в Советском Союзе и России в 1988–1991 гг. в качестве московского корреспондента The Washington Post. В книге, посвященной краху огромной империи и насыщенной разнообразными документальными свидетельствами, он прежде всего всматривается в людей и создает живые портреты участников переломных событий — консерваторов, защитников режима и борцов с ним, диссидентов, либералов, демократических активистов.

Книга посвящена деятельности императора Николая II в канун и в ходе событий Февральской революции 1917 г. На конкретных примерах дан анализ состояния политической системы Российской империи и русской армии перед Февралем, показан процесс созревания предпосылок переворота, прослеживается реакция царя на захват власти оппозиционными и революционными силами, подробно рассмотрены обстоятельства отречения Николая II от престола и крушения монархической государственности в России.Книга предназначена для специалистов и всех интересующихся политической историей России.

В книгу выдающегося русского ученого с мировым именем, врача, общественного деятеля, публициста, писателя, участника русско-японской, Великой (Первой мировой) войн, члена Особой комиссии при Главнокомандующем Вооруженными силами Юга России по расследованию злодеяний большевиков Н. В. Краинского (1869-1951) вошли его воспоминания, основанные на дневниковых записях. Лишь однажды изданная в Белграде (без указания года), книга уже давно стала библиографической редкостью.Это одно из самых правдивых и объективных описаний трагического отрывка истории России (1917-1920).Кроме того, в «Приложение» вошли статьи, которые имеют и остросовременное звучание.
