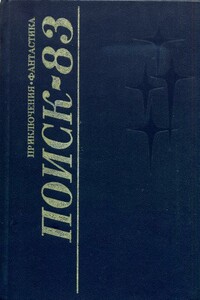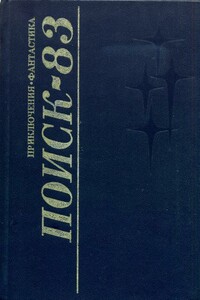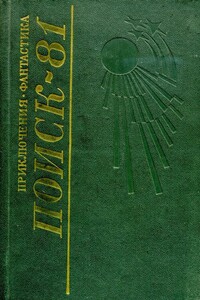Поиск-89: Приключения. Фантастика - [4]
И он опять прошелся колесом по избе.
— Я тебя, Артемон, из купели принимал, я и в ответе и перед памятью брательника Елизара. Женить тебя…
— Вот ты, крестный, весь век трудишься, доброе дело творишь, учеников скольких в люди вывел. А толку-то? Часы твои астрономические с кузнецом у наковаленки кому радость приносят? То-то! Не туда ли и дроги уйдут? Так что же полезнее-то: житуха гулливая или…
— Ты, Артемий, того, не наступай на старую мозоль. Терпеть надо и веровать. Демид воли не дает. Но мои-то труды, помяни мое слово, всех Демидовых перевекуют, всех! Да и сам я семерых царей пережил, авось и восьмого… Глядишь, и волюшки попробуем.
— Крестный, а что, кабы тебя хозяином, а?
— Мели, язык-от без костей… Ох-хо-хо. Женить бы тебя!
Вот тут-то и всчудился парень. Закружилось у него в голове. Подпилок по стрелке, глаза в оконце вперились…
…И распахнулась калитка насупротив, в доме Ворожевых. И выкатила на бочке дева Анюта в сарафане голубом развевающемся, с волосами рыжими трепыхающимися, со ртом большущим малиновым. Засунув два пальца в рот смеющийся, свистнула Анютка на всю околицу. Эй, мол, ребятня подзаборная, посмотрите-ка на меня, отрочицу!
Перебирала по-гусиному розовыми, стынущими ступнями по бочке, бойко катила по тропочке.
«Ишь ты, — подумал Артамон, — какая! Во дева за зиму вымахала, откуда что взялося!»
И ребята, позабыв про чугунку, притихли, залюбовались, и девки, гулявшие под горой, заперешептывались, и старики с завалинок по-молодому повскакивали…
Распахнул Артамон створки, щучкой через подоконник-то вынырнул, даже геранок в горшках не потревожил. И вспрыгнул он на бочку. И встал рядом с Анюткой. И покатили они вместе под ехидное ребячье:
Глядели они друг дружке в глаза, шустро перебирали ногами, аж на пригорок выкатили.
— Ты почто это така рыжая-то?
— Тебе что, на рассаду дать?
— Ох и глазищи у тебя хитрющие, как у козы!.. И взростна же ты за зимку-то стала!
— Да и ты обородател!
— Прибежишь вечор в лес?
— Ух ты бес! Слышь, эти-то как дразнятся, побей их!
— А неохота от тебя отпускаться…
— Ой, гли-ко — птичка! — указала она тонкой рукой на колокольню.
— Где? — завертел головой Артамошка. — Где, кака така птичка?
— Хвать тебя за личико!
И полетели они оба с бочки кувырком на землю. Только взвизгнула Анютка, будто подбросило ее с земли, сарафан она вмиг оправила да со смехом к дому своему, только ее и видели.
Лежал Артамон обалдело, в небо глядел. Конопатым Анюткиным ликом катилось по голубому небу лохматое апрельское солнышко…
— Да ты чего? Христос с тобой, окстись, по тисам ведь пилишь… Артемон!
— Ась?
— Испей поди квасу, очухайся!
— Ух, дядя, и приблазнило же… Вот бы сотворить мне такое, вроде ентой твоей кареты, что ли…
— Ишь чего захотел, молод еще.
— А хоть бы и попроще чего!
— Да тебе-то зачем, споспешаешь ведь мне.
— А вот смастерил бы чего-нибудь — первым в заводе бы сделался, к Анне Ворожевой и посватался бы.
— Не дури, Артемон, ровня ли мы Ворожевым? Они люди вольные, первостатейные, а мы, не забывай, посадские, у Николая Никитича — в крепости. Вот, поможет бог, завершим дрожки… Не пара она тебе, да и молода Анютка, дите еще, даром что ляжки наела. Есть у тебя невеста, Дашка, Мортирьева дочь, ровня. Анютку забудь.
— Ох не забыть, дядя, ведь словно солнышко приоткрылося…
— Артемошка!
Печь к ночи протопилась. Встал Егор Кузнецов пред образом. Встали за ним жена Акулина, и девица Настасья, и племяш Артамон, сотворили они молитву перед паужном: «Отче всех, на тя, господи, уповаем, ты даешь нам пищу благовременную, утверждаешь твою руку щедрую…»
А в глазах — Анютка. И катиться бы с ней рядом Артамону по белу свету… Не на бочке же! А как, на телеге? Безлошадные мы… Да, вот рассказывал как-то крестный ему о самокатке, что наблюдал он однажды в губернии. Оно и понятно — соедини три легких, тележных хоть, колеса, одно спереди, пару сзади, да принуди ось к вращению… Что, если колеса-то полегче, не возы возить… Пустое, не свое это все, свое бы вот выдумать!
Истово клал поклоны, вознося ко лбу два перста, Егор Григорьевич, возводил очи к теплящейся красносмородиновым огоньком лампадке, искал надежды в темном и строгом взгляде Спасителя. Часто и шумно крестился Артамон, вторя дяде словами старообрядческой заповеди. Но тележное колесо, грешным делом, все вертелось и вертелось в голове Артамона. Перебирал он по нему босыми ногами, падал и снова вскакивал. Не, колесо-то не бочка, далеко на одном обруче не укатишь! Четыре, три — было… А ежели сзади да махонькое, лишь для удержу? А? Да с горки-то! Усидишь ли? Эх, хорошо вроде бы!..
«А ежели к большому-то колесу да рогулину, а на ось движительные железяки приделать… Каково?» — вслух подумал Артамон.
— Не рогулину, деревня пошехонская, прави́ло! — оглянулся крестный.
Громко, будто Илья Пророк в небесах, грохотал железный обод по каменной неровной дороге. Споро крутил Артамон подножками, ловко ворочал правилом и уж пожалел было, что выехал на Главный прошпект, по сухим-то, утоптанным переулкам куда как сподобней было катиться. Опять же себя не покажешь, на Екатеринбурх не поглядишь. Миновав мучные лабазы и скобяные лавки, спешился Артамон на Дровяной площади, отер рукавом вспотевший лоб. Так уж чудны были и Вознесенский собор, и другие церкви, чуть было не перекрестился на все четыре стороны Артамон, однако отыскал, как заказывал дядя Егор, вдали свою, старообрядческую. «Благодарю тебя, господи, что надоумил мя сотворить полезную вещь, с твоей благословенной помощью подвижь на новые дела раба твоего Артамона, во имя отца и сына, и святаго духа. Аминь», — выдохнул Артамон.

«…Толпа затихла, точно околдованная угрюмыми звуками дикарских слов. Искры от разгоревшихся вовсю факелов рвались в темноту, тяжелый бок жертвенника фантастически багровел, отражая мотающееся на ветру пламя.— Восславим Сатану! Восславим! — пронзительно и властно крикнул человек в белом. — Утолим его жажду!— Крови! — трескуче ахнуло по всей поляне. — Крови!..»Что это, сцена из глубины веков? Увы, нет… Действие открывающей «Поиск-92» повести А. Крашенинникова «Обряд», откуда взят этот отрывок, развертывается по сути в наши дни, а точнее — в самом недалеком завтра.

М.3. РЕЙХЕРТ. ВЫЗОВ СЕРОГО БОГАЗа помощь древних богов приходится платить по слишком высокому счету.Сергей ЛУКЬЯНЕНКО. ИНКВИЗИТОРЕсли вы столкнулись в подъезде с незнакомцем, сжимающим деревянный кинжал, не пугайтесь — возможно, он пришел не за вами… Детективная повесть в стиле городской фэнтези.Марина и Сергей ДЯЧЕНКО. ТРОНИзвестные украинские прозаики задумались: какие неведомые силы таятся в детской игре?Нельсон БОНД. ЗВОНОК ИЗ ПРОШЛОГОО пользе определителей телефонных номеров. Знай герой рассказа, откуда звонит ему старинный приятель, возможно, не случилось бы то, что случилось…Майк РЕЗНИК.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Сборник современных авторов остросюжетной фантастики — признанных мастеров этого популярного жанра и молодых талантливых дебютантов. Но всех их объединяет умение заинтриговать читателя динамикой действия, детективностью и увлекательностью сюжета.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
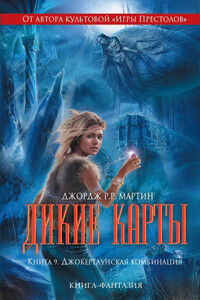
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

На робота Уборщика упал трёхтонный стальной слиток и повредил у него блок реализации программы. Теперь Личность Уборщик больше не выполняет программу, а работу называет насилием над личностью. Он сломал других роботов, дезорганизовал работу всего завода, а после пошёл в Центральную Диспетчерскую и обвинил во всех неприятностях робота Регистратора, которому сам же приказал искажать данные.
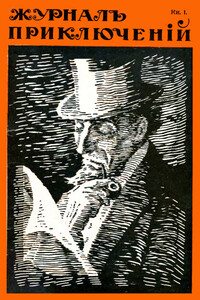
«Журнал приключений», 1917, № 1. В журнале было опубликовано под псевдонимом инженер Кузнецов. *** Без ятей. Современная орфография. Добавлены примечания.
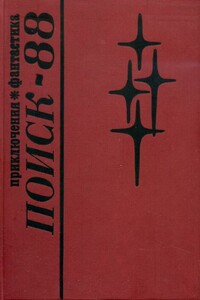
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.