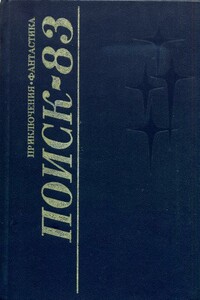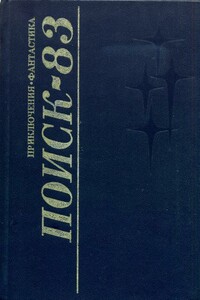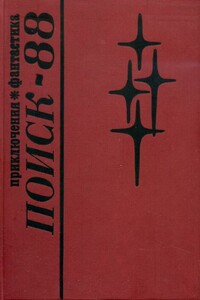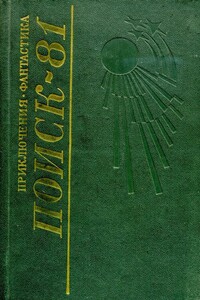У подножия поросшей могучими соснами горы лошади остановились и, как ни колотили их ездоки, взбираться по крутому склону не насмеливались, чувствуя, видимо, что не хватит сил, — пятились, вздрагивали.
— У, паскуда бесконвойная! — Козырь ткнул кулаком в холку жеребца. Нехотя спешился. Обернулся к спутникам: — Придется, братва, ножками, — и начал взбираться в гору.
Урядник и Студент, скакавшие без седел, охлупкой, и от того измучившие и себя, и лошаденок, тяжело сползли на траву. Постанывая, потирая отшибленные зады, потащились за Козырем.
На вершине они, прячась за деревьями, перебежками приблизились к краю откоса. Залегли, глянули на Сатарово.
— Рыбу коптят гады, — Козырь шевельнул ноздрями, принюхиваясь. Поморщился. — Хавать охота, моченьки нету!
— Придется потерпеть до ночи, — рассудительно заметил Урядник. Степенно огладил бороду. — Сколь же здесь краснюков?.. И остячишек чтой-то больно густо.
Ханты, как только ушел пароход, как только Никишка-ики рассчитался по старым долгам, а молоденький новый начальник в красных штанах пообещал, что будет хорошо платить за мясо и рыбу, развили бурную, ошеломившую чоновцев деятельность. Часть мужиков, не мешкая, ушла берегом, чтобы через два-три часа появиться в обласах, полных рыбы. Женщины споро и без слов принялись эту рыбу разделывать, солить, вялить, коптить в избушке-коптильне. Мужики развернулись и опять уплыли ставить сети. Старики и подростки исчезли в тайге, но вскоре вернулись, гоня перед собой, к восторгу Латышева, оленье стадо. Еще одна группа хантов, самая малочисленная, скрывшаяся из Сатарово первой, вернулась только утром и привезла на нартах три туши сохатых. И лосей, и оленей, которых пригнали и забили старики, женщины тоже стали привычно и буднично солить, коптить, вялить. Впрочем, не все женщины. Несколько молодок тоже ушли из поселка и вернулись лишь на следующий день. И тоже с оленями, запряженными в нарты, на которых лежали туго набитые мешки кедровых орехов, стояли короба с крупной брусникой, с отборной клюквой. И этих оленей отдали Латышеву на убой. «Погодьте, сердешные, — взмолился дед Никифор. — Вдруг да не хватит товара расплатиться!» — «Ничо, Никишка-ики. Бери опять в долг. Потом расплатишься…»
— Однако, многовато чекистов, — задумчиво протянул Урядник и снова огладил бороду. — Шесть голов уже насчитал. А сколь их по избам или в том вон амбаре? Неведомо.
— Что это они тащат? — Студент сдернул пенсне, подышал на стеклышки, протер их полой куртки. Снова нацепил на нос, хмыкнул.
— Рыба это, слепень ты четырехглазый! — раздраженно буркнул Козырь. — Видишь, из коптильни кондыбают. Копченую тащат. А я бы сейчас и сырую слопал. Как остячишка. Не побрезговал бы, век воли не видать!
— Пируют господа чекисты, — ненавидяще процедил Урядник. — Вон как нажрались, даже покачивает от сытости…
А бойцы, и правда, пошатывались — слишком уж опьянял одуряющий, вызывающий спазмы в желудке, нежный, аппетитный запах копченых муксунов, которых несли в амбар, продев сквозь жабры рыбин тонкий шест и положив концы его на плечи. Шест прогибался, гирлянда муксунов неравномерно раскачивалась, чоновцы сбивались с шага.
— В лад шагай, Семен, — оглянувшись, попросил передний, совсем еще мальчишка. — Иль выдохся уже?
— Такой-то груз я с утра до вечера таскать согласный, — худой и хлипкий Семен оскорбленно запыхтел.
Пружинящими мелкими шажками вбежали они в амбар с распахнутыми настежь створками дверей, где вдоль стены громоздились штабеля потемневшей уже клепки. Остановились около высоких козел, меж которыми висели на сушилах густые ряды копченой рыбы. Присели, хакнули, выпрямились, уложили и свой шест концами на козлы.
Старик Никифор и Латышев, вгонявшие крышку в бочку, на округлом боку которой было написано углем: «Лось. Солонина», даже не взглянули на вошедших. Только Егорушка, стоявший важно рядом с дедом и державший деревянный молоток, посмотрел на чоновцев-рыбоносов с нескрываемым превосходством.
— Вот эдак надо, мил человек, ровнехонько, плавненько, без перекосу, — ворковал Никифор. Выхватил молоток из рук Егорушки, принялся мелко поколачивать по окружности крышки. — Полностью с тобой согласен, дорогой товарищ, что остяк — человек мирный и добрый. Не вояка! — продолжая, видимо, разговор, весело выкрикивал он. — А уж жалостливый, сострадательный к чужой беде — прямо диво… Обруч давай? — приказал вдруг подчеркнуто властно. — Беседа — беседой, дело — делом!
Латышев торопливо поднял с земли гибкое деревянное кольцо, протянул старику. Тот накинул его на горловину бочки и опять запостукивал молотком то по обручу, осаживая, то — решительней, размашистей — по крышке.
— У остяка первая заповедь: помоги! — Голос деда Никифора вновь стал ласковым, журчащим. — Помочь ближнему — это для него закон незыблемый. Последние портки, последнюю рыбешку, последнюю пылинку мучицы страждущему отдаст, даже ежели сам опосля того одной корой питаться будет. Оченно душевный народ. И доверчивый — до невозможности.
Латышев качнул бочку, поставил в наклон. Подскочили бойцы-рыбоносы, бережно положили ее, откатили в угол к полудюжине других.