Похороны кузнечика [заметки]
1
Так, впрочем, случается со мной и при вполне обыденных обстоятельствах.
Я не раз ловил себя на том, что, говоря с безразличным или неприятным мне человеком, я легко владею мимикой, складывающей лицевые мышцы в нейтральные выражения. Но так много трачу на это сил, столь много думаю о бровях и так сосредоточиваю взгляд на переносице собеседника или мочке его уха, усердно минуя его ответный взор, что голосовые модуляции вырываются из-под неполного контроля. И вот, как зверьки, своевольно расползаясь, выдают меня с головой. Всего лишь на полтона выше звучат мои уверенья, как обнаруживается вся их мнимая, якобы соболезнующая участливость, и еще жестче проступает скрываемые холодность и безразличие. Куда лучше не вызывать такие ноты, от которых должно, по всем законам, запершить в горле – ведь плакать теперь придется настоящими, неинтеллектуальными слезами. Поэтому я перестал со всем этим бороться и в минуты настойчивого волнения всегда двусмысленно, недопустимо, почти цинично, на взгляд посторонних, улыбаюсь.
И я не могу согнать эту подлую гримасу со своего лица.
2
Одинокий старый человек, чье одиночество будет явлено нам в долгом многодневном лежании на этом диване, шаг за шагом, вздох за вздохом доберется до явного отрицания всего, что не является им самим, – она не будет замечать нашего присутствия, не будет реагировать на смену дня и ночи, она не захочет есть, так как почти не сможет это делать, она в конце концов замолчит, замкнувшись в себе, в створках своего безмолвия; дни и календарные числа для нее – уже не мера текущего времени, так как своим бездействием, одиноким существованием она снимает саму идею времени с повестки дня, да и ночи тоже, проникая в пространство снов с их одномоментностью и обреченностью на полное забвение.
3
Именно поэтому мы все время будем хотеть чем-то занять себя, ввести самих себя в круг привычных мотиваций – бесконечным мытьем очень чистых полов, бессмысленным приготовлением незамысловатой еды, к которой не испытываем аппетита, или еще чем-то, но непременно строго регламентированным и простым, уж не чтением, конечно.
Ее непонимание складываются в ранящее нас – меня и маму – безразличие, жестокое своей невозмутимостью, унижающее, неприемлемое.
4
Что касается запахов, то они стали сразу главенствующими во всем нашем предопределяемом именно ими быте. Они были теми граничными условиями, в чьем поле осуществлялось наше здравомыслие, проницательность, предусмотрительность и практичность. Волей неволей в рамках этих бытовых обстоятельств, изогнувшихся на протяжении этого времени грубыми, жесткими, предопределенными, все время осязаемыми неблагостными формами, мы должны были быть здравомыслящими и практичными, хотя точный фокус, где из сумбура намерений проявлялись, складывались и осуществлялись наши поступки, может быть, требовал совсем иной природы действий, иного рода универсальности, скажем так.
5
Наблюдая все эту мелочь, – а мне до сих пор, спустя много лет, помнятся в основном какие-то смещенные, мелкие, не основные качества тогдашнего времени, – я был неким растерянным дальтоником: ведь чтоб себя не выдать, не показать свой ущерб, для него столь естественно увлечение сравнительной ботаникой, штудирование побочных признаков, например древесных пород, так как (он знает это) идея дерева неотделима от видимых всеми (кроме него) оттенков нежной зелени, по которым и определяется вообще-то здоровыми людьми порода: дубок с осанистой или приспущенной призрачной кроной, сложенной из цветовых точек касаний сухой зеленцы, мерцающая ли кипа вспененной влажно-зеленой и свежей, невзирая на жару, березы, инертные ли, плохо гнущиеся на летнем ветру клены, тускло-изумрудные издали и такие темные, с влажной сенью вблизи, – то для дальтоника, вероятно, в качестве инструмента опознания породы выступили бы совсем другие попутные признаки дерева, другие особенности и оттенки, уж во всяком случае главенствовала бы не идея породы как целокупного качества дерева; так, очевидно, он, дальтоник, отличал бы обычный клен от березы или клена американского по какой-то нервической остроте кромки листика, зазубренного, словно пилка, – ведь у американского были такие крупные редкие зубчики, словно для распилки рыхлых зимних дров, чтобы колкие опилки летели сырой трухой, в отличие от той мелкой сухой пыльцы, производимой частыми зазубринками клена простого... И поэтому достоверно я уже не знаю ничего. Ну это просто так, к слову...
6
К этим вещам, вещичкам, предметикам, штучкам, лежащим в кромешной путанице в большой алой шелковой коробке (я почему-то извлек ее из раскрывшегося самого по себе платяного шкафа), где когда-то в отдельных белых взволнованных атласных нишах оперными дивами возлежали мыло, пудра, одеколон, духи «Красная Москва» – в нарядных диагональных одеяньях с кисточками в этой огромной плоской шелковисто-ласковой на ощупь коробочке, чем-то похожей на сердце, – к предметам, собранным в ней, было совсем иное отношение, нежели к тем обессмысленным вещам, торопливо выносимым мною на улицу к переполненным мусорным бачкам.
7
И это, господи ты боже мой, так по-детски – вместо скорбной дымчатой фокусировки предпочесть уставиться в его (бинокля) выпуклые крепкие синеватые дружеские очи и увидеть какую-то вещицу, например этот тонкостенный стакан. Из него недавно я пил безвкусный теплый кефир, и белый след затек и высох на тонком стекле стенки оснеженной одинокой Фудзиямой – знаменитой японской горой, а не отпечатком некой использованной белой липкой жидкости – этакой невещественной тягомотиной, эфемерной ерундовиной, которая в силу своей явной несущественности по сравнению... по сравнению с тем-то и тем-то не значит уже совсем ничего!.. и в силу последнего (совсем забалтываюсь я) незначительна, склонна пребывать где-то на заднем плане ума, в полной афазии без точного наречения словом, лишь что-то мыча и гундося.
8
Она толкнула своим предательским блеском гигантскую кристаллическую решетку связей всей нашей умершей, убитой, умученной, выброшенной за край жизни родни, и, ожившая, ставшая подвижной, эта решетка совершила одно легкое и вздрогнувшее сияющее колебательное движение, и мы с мамой оказались соучастниками, втянутыми в жизненную череду, повисли легкими гнездами на ветвях кряжистого родового шумного дерева, где нет ничего, кроме фактов смерти, и между ними чьи-то родственные биографии стали голыми, обескровленными, остистыми, различающимися лишь смертными жуткими часами, совершенно не могущими, к моему ужасу, рифмоваться, без тени какого бы то ни было подобия, которое смогло бы, если б было, свести их в один, через запятую, не оскорбляющий своей утилитарной общностью список. Так-то.
9
И еще я подумал, что они, как плотогоны из документального фильма про Карпаты, я его почему-то до сих пор помню: стоят на пожитках, сваленных у ног до кучи, – какие-то легкие рюкзаки и сумки, никого не задев из близких и дальних, и тонут так тупо, пошло и так легко.
10
Поэтому, когда внезапно завязалась поначалу нелепая, непонятно отчего возникшая драка, оно, это, выплывшее шлейфом за мной на темнеющую улицу, материализовавшись из согласных их странного словаря, из воздуха их шепота, налетело на меня, как голубь, откуда-то сверху, а может быть, вырвалось из-под ног, словно куропатка.
Большое и совершенно определенно крылатое тело, принадлежащее тому, кого я именую это, оказалось не только бесполым, никаким, но и удивительно легким.
Как будто я хлебнул некоторое время назад не стакан кофейной жижи, а набрал полные легкие дурманящего наркоза.
Вообще-то это была крылатая голова с фасада Троицкого собора кисти московских богомазов. Я лобызал и лупил это в самую сладкую и уязвимую точку середины – точку перегиба крыльев, где 0 губ переходит в , а оно, это, летало вокруг меня все ниже и ниже, задевая ущербную траву, оставляя за собой, как реактивный самолет, клубы оплавленного, ставшего видимым, сильно покрасневшего мешковатого воздуха.
Духота упиралась в горячую почву, как ликование.
11
Ведь у нас была с ним какая-то смутная пыльная история, похожая на галлюцинацию. О ней мне не хочется вспоминать. Но для полноты картины... Тоже на исходе лета. Я ее вижу нечетко, словно сквозь слезы.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
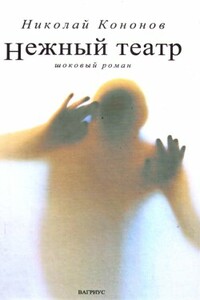
Герой «Нежного театра» Николая Кононова вспоминает детские и юношеские впечатления, пытаясь именно там найти объяснения многим событиям своей личной биографии. Любовная линия занимает в книге главенствующее место. Острая наблюдательность, провокативная лексика, бесстрашие перед запретными темами дают полное право назвать роман «шоковым».
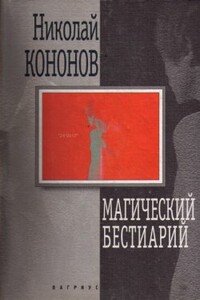
Ускользающее время, непроизнесенные слова, зыбкость, пронизывающая нынешнее бытие, являются основными, хотя и подспудными темами психологической прозы Николая Кононова.Действие в произведениях, вошедших в книгу «Магический бестиарий», происходит, как правило, на стыке прошлого и настоящего. Однако его герои пребывают скорее не «в поисках утраченного времени», а в поисках «утраченного себя». Сознавая гибельность своих чувств, охотно отдаются на их волю, ибо понимают, что «эрос и танатос неразделимы».

В сборник вошли две повести и рассказы. Приключения, детективы, фантастика, сказки — всё это стало для автора не просто жанрами литературы. У него такая судьба, такая жизнь, в которой трудно отделить правду от выдумки. Детство, проведённое в военных городках, «чемоданная жизнь» с её постоянными переездами с тёплой Украины на Чукотку, в Сибирь и снова армия, студенчество с летними экспедициями в тайгу, хождения по монастырям и удовольствие от занятия единоборствами, аспирантура и журналистика — сформировали его характер и стали источниками для его произведений.
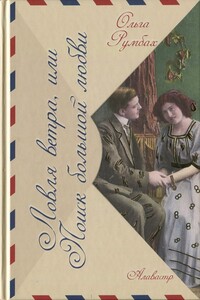
Книга «Ловля ветра, или Поиск большой любви» состоит из рассказов и коротких эссе. Все они о современниках, людях, которые встречаются нам каждый день — соседях, сослуживцах, попутчиках. Объединяет их то, что автор назвала «поиском большой любви» — это огромное желание быть счастливыми, любимыми, напоенными светом и радостью, как в ранней юности. Одних эти поиски уводят с пути истинного, а других к крепкой вере во Христа, приводят в храм. Но и здесь все непросто, ведь это только начало пути, но очевидно, что именно эта тернистая дорога как раз и ведет к искомой каждым большой любви. О трудностях на этом пути, о том, что мешает обрести радость — верный залог правильного развития христианина, его возрастания в вере — эта книга.

Действие повести происходит в период 2-й гражданской войны в Китае 1927-1936 гг. и нашествия японцев.

УДК 821.161.1-31 ББК 84 (2Рос-Рус)6 КТК 610 С38 Синицкая С. Система полковника Смолова и майора Перова. Гриша Недоквасов : повести. — СПб. : Лимбус Пресс, ООО «Издательство К. Тублина», 2020. — 249 с. В новую книгу лауреата премии им. Н. В. Гоголя Софии Синицкой вошли две повести — «Система полковника Смолова и майора Перова» и «Гриша Недоквасов». Первая рассказывает о жизни и смерти ленинградской семьи Цветковых, которым невероятным образом выпало пережить войну дважды. Вторая — история актёра и кукольного мастера Недоквасова, обвинённого в причастности к убийству Кирова и сосланного в Печорлаг вместе с куклой Петрушкой, где он показывает представления маленьким врагам народа. Изящное, а порой и чудесное смешение трагизма и фантасмагории, в результате которого злодей может обернуться героем, а обыденность — мрачной сказкой, вкупе с непривычной, но стилистически точной манерой повествования делает эти истории непредсказуемыми, яркими и убедительными в своей необычайности. ISBN 978-5-8370-0748-4 © София Синицкая, 2019 © ООО «Издательство К.
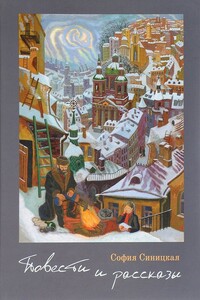
УДК 821.161.1-3 ББК 84(2рос=Рус)6-4 С38 Синицкая, София Повести и рассказы / София Синицкая ; худ. Марианна Александрова. — СПб. : «Реноме», 2016. — 360 с. : ил. ISBN 978-5-91918-744-8 В книге собраны повести и рассказы писательницы и литературоведа Софии Синицкой. Иллюстрации выполнены петербургской школьницей Марианной Александровой. Для старшего школьного возраста. На обложке: «Разговор с Богом» Ильи Андрецова © С. В. Синицкая, 2016 © М. Д. Александрова, иллюстрации, 2016 © Оформление.
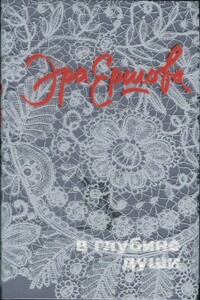
Вплоть до окончания войны юная Лизхен, работавшая на почте, спасала односельчан от самих себя — уничтожала доносы. Кто-то жаловался на неуплату налогов, кто-то — на неблагожелательные высказывания в адрес властей. Дядя Пауль доносил полиции о том, что в соседнем доме вдова прячет умственно отсталого сына, хотя по законам рейха все идиоты должны подлежать уничтожению. Под мельницей образовалось целое кладбище конвертов. Для чего люди делали это? Никто не требовал такой животной покорности системе, особенно здесь, в глуши.