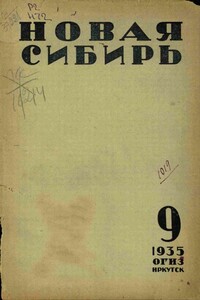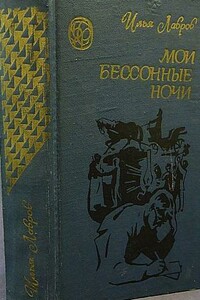Поэма о фарфоровой чашке - [9]
Внимательно следил М. Горький за развитием литературы в Сибири. Естественно, он не мог не заметить и такого писателя, как Ис. Гольдберг. Перечисляя лучшие произведения советской литературы о «социалистическом заводе», М. Горький назвал и «Поэму о фарфоровой чашке». Иначе и не могло быть. А когда сибиряки отмечали в 1933 году тридцатилетие творческой деятельности Ис. Гольдберга, М. Горький писал ему:
«Дорогой Исаак Григорьевич! Примите мой искренний и почтительный поклон. Мне кажется, что я довольно четко и живо могу представить себе, что значит и сколько требует сил тридцатилетняя работа в области литературы за пределами внимания литераторов и критиков «центра». Известно, что иные критики и литераторы отличаются постоянным и непонятным безразличием по отношению к литературе областей и союзных республик».
Теперь, когда разрушены искусственные преграды между литературой «центра» и областей, настала пора твердо и ясно сказать, что крупный художник Сибири Исаак Гольдберг занимал и занимает значительное место в истории развития советской литературы.
И. Яновский
Пролог
Ветры, дующие с надгорий Танну-Ола и Большого Хингана, воды, текущие в руслах Эдера, Эши-Гола и Орхона, пески, веющие из неузнанных и обширных глубин Великой Гоби, — все это, не зная границ, стекает, низвергается, веет из страны монголов.
И, может быть, сердитый баргузин или култук, бороздящие зелено-льдистые воды Байкала, в какие-то мгновения сливаются, свиваются и мешаются с сухими ветрами, в которых горький запах монгольских пастбищ и теплое дыхание степного солнца…
Кургузая лошадка, мохноногая и гривастая, мелкой переступью топчется по дороге. Из-под копыт вспыхивает легкая пыль. На кургузой лошади в высоком седле, закутанный в тэрлик, в шапке, острие которой увенчано стеклянной шишечкой, едет монгол. Синяя далемба его тэрлика выцвела на солнце. Синяя даль выцветает в летнем зное.
Широка дорога в степи. Бескрайна степная дорога. Солнце медленно плывет над синеющими вдали горами Солнце делает путь длинным, извилистым.
Сонное затишье стелется от острого солнца над степью.
В сонном затишье звуки мягки и вкрадчивы. Дробен стук копыт, почти беззвучно позванивание, позвякивание стремян.
Сонна, мягка и вкрадчива песня, которую поет всадник монгол на мохноногой лошади, монгол в тэрлике из синей далембы.
Ветры, дующие с надгорий Танну-Ола и Большого Хингана, воды, текущие в руслах Эдера, Эши-Гола и Орхона, пески, веющие из неузнанных и обширных глубин Великой Гоби — все это, не зная границ, веет, стекает, низвергается из страны монголов.
Всадник на кургузой мохноногой лошади поет песню… И степь, лениво колышущая свои травы и кадящая раскаленному небу пряные ароматы, впитывает эту песню, пьет ее, лелеет ее.
И песнь вольготно и легко летит над тихими травами, над редкими обо, над широкими степными дорогами, которые разбегаются во все стороны и не всегда ведомо куда ведут.
Порывистый ветер, внезапно возникающий в безоблачности светлого и знойного дня, гонит облака пыли. А за гранями перекрашенных дорог катится бурая туча. Из этой тучи растут рев и мычанье.
Идут стада. Бурым зыбким маревом колышется над ними прогретая, прокаленная степная пыль. Косматые сарлыки и хайнаки, налезая друг на друга, сталкиваясь, толкаясь и беспричинно на мгновенье свирепея, идут, покорные острым крикам погонщиков-пастухов, покорные оглушительным взрывам бича.
И путь этих стад все тот же, что и путь ветров, веющих с предгорий Танну-Ола и Большого Хингана, что и путь бесконечных вод. Эдера, Эши-Гола и Орхона, что и путь песков, уносимых из Великой Гоби.
Путь их лежит туда, где кончается Эдер и возникает Селенга.
Где на пограничных столбах вытравлена пятиконечная звезда.
Хупсугул Далай, который зовется русским Косоголом, связан подземными токами с Байкалом.
Таково предание.
Пусть спорят против этого ученые, пусть доказывают они, что этого не может быть, — старый монгол, питающийся преданиями предков, твердо знает: Хупсугул Далай время от времени выбрасывает из своих недр обломки судов, погибших на Байкале.
А когда жаркий июль разъедает снега на Саянах, три единорожденных реки — Китой, Иркут и Белая — пухнут от мутных, вспененных вод и несут в своих руслах прах, навеянный веками в надгорьях Монголии.
А Белая лижет берег, на котором громоздится фабрика.
А фабрика, ворча, стеная и грохоча, из праха, из земли, из камней и глины творит вещи.
И среди вещей — чашку.
Фарфоровую чашку.
Старый монгол крошит в котел дзузан. Костер дышит жаром, вода в котле бурлит. Чай закипает. От дзузана, от зеленого чая крепкий дух идет.
Старый монгол рукавом тэрлика вытирает чашку. Широкая, полукруглая — полушарие с ободком-донышком — чашка по краю изукрашена узором. Голубая кайма — как кусочек неба, прилипшего к фарфору. Голубая кайма — и на ней черточки нехитрого узора.
Чашка по краям (там, где голубое) выщерблена. По чашке расползлись трещины. Морщины расползлись по обожженному солнцем и ветрами лицу старика. На дне чашки накипели бурые пятна.
Сколько лет этой чашке? Сколько лет старику?
Монгол долго пьет свой дзузан. Солнце жжет. Солнце томит. От солнца жарко. Чай жжет. Чай гонит обильный пот. По бороздам лет на стариковых щеках, на лбу катятся тусклые капли пота.

В повести «Сладкая полынь» рассказывается о трагической судьбе молодой партизанки Ксении, которая после окончания Гражданской войны вернулась в родную деревню, но не смогла найти себе место в новой жизни...

Роман Гольдберга посвящен жизни сибирской деревни в период обострения классовой борьбы, после проведения раскулачивания и коллективизации.Журнал «Сибирские огни», №1, 1934 г.

Общая тема цикла повестей и рассказов Исаака Гольдберга «Путь, не отмеченный на карте» — разложение и гибель колчаковщины.В рассказе, давшем название циклу, речь идет о судьбе одного из осколков разбитой белой армии. Небольшой офицерский отряд уходит от наступающих красных в глубь сибирской тайги...

Одним из интереснейших прозаиков в литературе Сибири первой половины XX века был Исаак Григорьевич Годьдберг (1884 — 1939).Ис. Гольдберг родился в Иркутске, в семье кузнеца. Будущему писателю пришлось рано начать трудовую жизнь. Удалось, правда, закончить городское училище, но поступить, как мечталось, в Петербургский университет не пришлось: девятнадцатилетнего юношу арестовали за принадлежность к группе «Братство», издававшей нелегальный журнал. Ис. Гольдберг с головой окунается в политические битвы: он вступает в партию эссеров, активно участвует в революционных событиях 1905 года в Иркутске.

Исаак Григорьевич Гольдберг (1884-1939) до революции был активным членом партии эсеров и неоднократно арестовывался за революционную деятельность. Тюремные впечатления писателя легли в основу его цикла «Блатные рассказы».

В сборник известного советского прозаика и очеркиста лауреата Ленинской и Государственной РСФСР имени М. Горького премий входят повесть «Депутатский запрос» и повествование в очерках «Только и всего (О времени и о себе)». Оба произведения посвящены актуальным проблемам развития российского Нечерноземья и охватывают широкий круг насущных вопросов труда, быта и досуга тружеников села.

В сборник вошли созданные в разное время публицистические эссе и очерки о людях, которых автор хорошо знал, о событиях, свидетелем и участником которых был на протяжении многих десятилетий. Изображая тружеников войны и мира, известных писателей, художников и артистов, Савва Голованивский осмысливает социальный и нравственный характер их действий и поступков.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
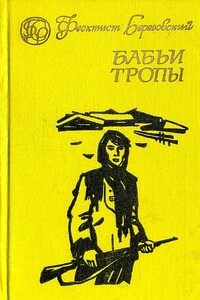
Первое издание романа «Бабьи тропы» — главного произведения Феоктиста Березовского, над совершенствованием которого он продолжал работать всю жизнь, вышло в 1928 году. Динамичный, трогательный и наполненный узнаваемыми чертами крестьянского быта, роман легко читается и пользуется заметным успехом.Эпическое полотно колоритно рисует быт и нравы сибирского крестьянства, которому характерны оптимизм и жизнелюбие. Автор знакомит читателя с жизнью глухой сибирской деревни в дореволюционную пору и в трагические годы революции и гражданской войны.
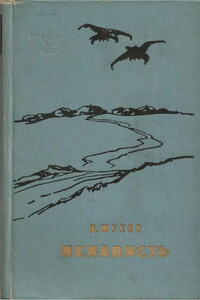
Издательская аннотация в книге отсутствует. _____ Горе в семье богатея Епифана Окатова: решил глава семейства публично перед всем честным народом покаяться в «своей неразумной и вредной для советской власти жизни», отречься от злодейского прошлого и отдать дом свой аж на шесть горниц дорогому обществу под школу. Только не верят его словам ни батрачка Фешка, ни казах Аблай, ни бывший пастух Роман… Взято из сети.
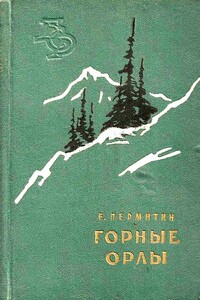
Эпопея «Горные орлы» воссоздает впечатляющие картины классовой борьбы в сибирской деревне, исторически достоверно показывая этапы колхозного движения на Алтае.Напряженный интерес придают книге острота социальных и бытовых конфликтов, выразительные самобытные образы ее героев, яркость языковых красок.