Подвиг на Курилах - [5]
— Комиссар у нас голова! Все по полочкам разложил, — командир весело подмигнул замполиту. — Скажу откровенно, когда Дроздов ушел, я очень боялся, что пришлют нам такого боцмана, с которым хлебнем мы горюшка… Очень рад, что оказался не прав.
Вот за эту способность открыто признавать свои заблуждения, не боясь, что это может поколебать авторитет в глазах подчиненных, замполит и уважал командира.
Идет война священная
Уже вовсю громыхала на нашей земле война. Каждое утро моряки собирались у репродукторов, чтобы послушать сводку Совинформбюро. К этому времени Вилков приходил из своей старшинской каюты в кубрик, где размещалась боцманская команда, садился на крашеную шаровой краской банку к длинному столу, наглухо прикрепленному к палубе и, подперев голову рукой, ждал, когда оживет темный квадрат репродуктора.
Едва раздавался знакомый голос московского диктора, матросы сбивались тесной группой поближе к динамику.
— Можайск, Волоколамск, Дорохово — это же Подмосковье, — растерянно говорил товарищам Сидельников, выслушав сводку. — От Москвы до Дорохова электричкой два часа ехать…
— Когда же их остановят? — глухо ронял Синицын.
Уваров с жаром заверял:
— Придет срок — остановят! В столицу врага не пустят! — Его большие, оттопыренные уши становились пунцовыми. — Вот бы нас туда под Москву! Мы бы им показали…
— Без нас покажут, — замечал Вилков. — Ведь у нас здесь тоже важная служба.
Честно говоря, он сам бы многое отдал за то, чтобы оказаться среди защитников столицы.
Однако говоря о важности службы на Востоке, боцман был безусловно прав. 15 октября 1941 года член Военного совета Тихоокеанского флота С. Е. Захаров в числе других военачальников-дальневосточников был вызван в Москву. Там командующего Дальневосточным фронтом генерала армии И. Р. Апанасенко, командующего Тихоокеанским флотом адмирала И. С. Юмашева, первого секретаря Приморского крайкома партии Н. М. Пегова и его принял в Кремле И. В. Сталин.
Вот как об этом вспоминает сам Захаров:
«И. В. Сталин медленно прохаживался у стола, держа в руках свою неизменную трубку. Поинтересовавшись, как у нас обстоят дела, он рассказал о трудной обстановке, сложившейся на фронте. Затем у И. Р. Апанасенко и И. С. Юмашева спросил, какие силы и средства могли бы они выделить в распоряжение Ставки без особого ущерба для боеспособности фронта и флота. При этом предупредил: нет никаких гарантий, что японская военщина не выступит против нас, и дальневосточникам тогда придется очень трудно, а помощи ожидать будет неоткуда. После наших заверений, что дальневосточники при любых условиях до конца выполнят свой воинский долг, Сталин тепло попрощался с нами и пожелал успехов.
В этот же день в Генеральном штабе были уточнены силы и средства, которые предстояло отправить с Дальнего Востока на Запад, а когда через несколько дней мы вернулись во Владивосток, то эшелоны там уже формировались.
Моряки Тихоокеанского флота участвовали в битвах под Москвой и в Сталинграде, в героической обороне Севастополя и Ленинграда, в боях за Северный Кавказ и Заполярье. Их можно было встретить на кораблях и в частях Северного, Балтийского, Черноморского флотов, на военных флотилиях».[1]
Но тогда, глубокой осенью 1941 года, слушая вместе с товарищами в кубрике передачи по радио, Вилков ничего этого не знал. Каждое слово передовой «Правды» от 20 октября больно отдавалось в сердце: «Враг угрожает нашей любимой столице. Во чтобы то ни стало остановить продвижение фашистских орд, задержать врага и затем опрокинуть его — вот задача, поставленная сейчас партией и правительством перед частями Красной Армии…»
После этого Николай написал рапорт с просьбой направить его на фронт. Командир корабля прочитал его, хмуро глянул на старшину и сухо произнес:
— Командование само решит, кому где быть надлежит. — Этим нарочито канцелярским оборотом речи он как бы пресекал всякую попытку продолжать разговор об отправке на фронт.
А вечером, после спуска флага, Вилкова вызвал замполит. При ярком свете электрических ламп видно было, как сильно он изменился: осунулся, похудел, исчез веселый блеск глаз. Еще бы, ведь замполит — уроженец Украины, где-то возле Днепропетровска живут его родители — мать, отец, сестры. Туда на лето он еще в мае отправил погостить жену и сынишку…
— Товарищ комиссар, вы от жены письма получаете? — невольно вырвалось у старшины.
— Какие там письма! Пятихатка вот уже третий месяц оккупирована фашистами… — Замполит подавил вздох. — Ладно, старшина, сейчас не об этом разговор. Не у меня одного семья в беду попала. — Он достал из голубой папки рапорт Вилкова. — Вот ты тут в своем рапорте пишешь, что не можешь оставаться в глубоком тылу, когда идет смертельный бой за свободу Родины, и просишь послать тебя в действующую армию. Так?
— Так…
— Выходит, ты у нас один в бой рвешься? Остальные не стремятся защищать свою землю, меньше тебя любят ее…
Вилков хотел возразить, но замполит предостерегающе поднял руку. Его округлое лицо с продольной ямочкой на подбородке, обычно такое добродушное, сейчас было замкнутым.
— Погоди, старшина, не перебивай. Ты уж выслушай меня. Я тебе первому об этом говорю. Известно тебе, что значит оставить у врага детей, жену, родителей? Может, их в живых уже нет…. — В темных комиссаровых глазах Вилков прочел такое страдание, что ему стало не по себе. — А я даже отомстить за них не имею возможности!

Труд В. П. Артемьева — «1-ая Дивизия РОА» является первым подробным описанием эпопеи 1-ой Дивизии. Учитывая факт, что большинство оставшегося в живых рядового и офицерского состава 1-ой Дивизии попало в руки советских военных частей и, впоследствии, было выдано в Особые Лагеря МВД, — чрезвычайно трудно, если не сказать невозможно, в настоящее время восстановить все точные факты происшествий в последние дни существования 1-ой Дивизии. На основании свидетельств нескольких, находящихся з эмиграции, офицеров 1ой Дивизии РОА, а также и некоторых архивных документов, Издательство СБОРН считает, что труд В.
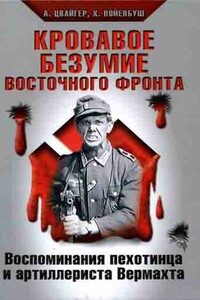
Когда авторов этой книги отправили на Восточный фронт, они были абсолютно уверены в скорой победе Третьего Рейха. Убежденные нацисты, воспитанники Гитлерюгенда, они не сомневались в «военном гении фюрера» и собственном интеллектуальном превосходстве над «низшими расами». Они верили в выдающиеся умственные способности своих командиров, разумность и продуманность стратегии Вермахта…Чудовищная реальность войны перевернула все их представления, разрушила все иллюзии и едва не свела с ума. Молодые солдаты с головой окунулись в кровавое Wahnsinn (безумие) Восточного фронта: бешеная ярость боев, сумасшедшая жестокость сослуживцев, больше похожая на буйное помешательство, истерическая храбрость и свойственная лишь душевнобольным нечувствительность к боли, одержимость навязчивым нацистским бредом, всеобщее помрачение ума… Посреди этой бойни, этой эпидемии фронтового бешенства чудом было не только выжить, но и сохранить душевное здоровье…Авторам данной книги не довелось встретиться на передовой: один был пехотинцем, другой артиллеристом, одного война мотала от северо-западного фронта до Польши, другому пришлось пройти через Курскую дугу, ад под Черкассами и Минский котел, — объединяет их лишь одно: общее восприятие войны как кровавого безумия, в которое они оказались вовлечены по воле их бесноватого фюрера…
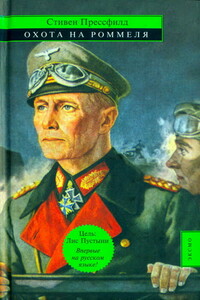
Ричмонд Чэпмен — обычный солдат Второй мировой, и в то же время судьба его уникальна. Литератор и романтик, он добровольцем идет в армию и оказывается в Северной Африке в числе английских коммандос, задачей которых являются тайные операции в тылу врага. Рейды через пески и выжженные зноем горы без связи, иногда без воды, почти без боеприпасов и продовольствия… там выжить — уже подвиг. Однако Чэп и его боевые товарищи не только выживают, но и уничтожают склады и аэродромы немцев, нанося им ощутимые потери.
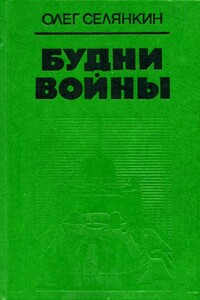
Новая книга пермского писателя-фронтовика продолжает тему Великой Отечественной войны, представленную в его творчестве романами «Школа победителей», «Вперед, гвардия!», «Костры партизанские» и др. Рядовые участники войны, их подвиги, беды и радости в центре внимания автора.
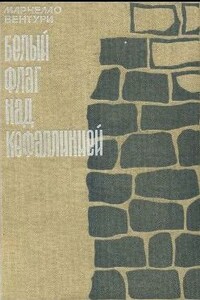
8 сентября 1943 года, правительство Бадольо, сменившее свергнутое фашистское правительство, подписало акт безоговорочной капитуляции Италии перед союзными силами. Командование немецкого гарнизона острова отдало тогда дивизии «Аккуи», размещенной на Кефаллинии, приказ сложить оружие и сдаться в плен. Однако солдаты и офицеры дивизии «Аккуи», несмотря на мучительные сомнения и медлительность своего командования, оказали немцам вооруженное сопротивление, зная при этом наперед, что противник, имея превосходство в авиации, в конце концов сломит их сопротивление.
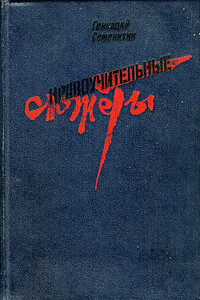
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.