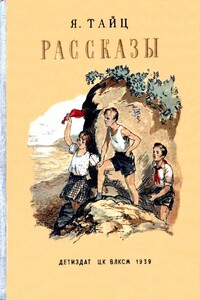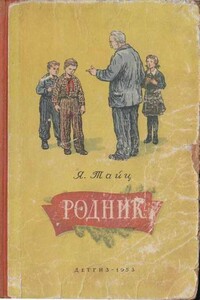— Ой, пойдём, Миколас, пойдём! Только я у дяденьки Корнея спрошусь.
Она побежала к главному корпусу. Там то и дело проходили врачи, сестры. Взад-вперёд сновали санитары в белых халатах, из-под которых видны были тяжёлые солдатские сапоги.
Дядя Корней размашисто подметал дорожки в обгорелом саду. Онуте подбежала к нему, что-то сказала, он кивнул головой, погладил Онуте по спине и снова взялся за метлу: ширк, ширк…
А Миша и Онуте вышли за ворота. И вот они шагают рядом. Онуте мелко семенит босыми ногами, а Миша старается делать шаги побольше, чтобы не наступать на щели в тротуаре.
По дороге Онуте показывала:
— Вон там была школа. А там была фабрика, где папа работал. А там кино. А вон та гора называется гора Гедимина. А там костёл.
Возле некоторых домов шла работа. Люди разбирали кирпичи, обрушивали шаткие стены. Звенели заступы, ломы, топоры. Город приходил в себя, он оживал, как оживает весной природа после зимней стужи.
Миша старательно перешагивал через щели между плитами.
— Ой, то я знаю! — сказала Онуте. — То так играют. Только позабыла, как называется.
— Это «классы», — сказал Миша. — У нас девочки так играют. А ещё знаешь как они играют? Возьмут верёвку и целый день крутят и прыгают, крутят и прыгают. Ты играла так?
— Ни! — качнула Онуте головой. — Когда фашисты были, я ни в чего не играла.
— Совсем ни в чего?
— Ни.
Миша задумался.
— А почему ты… — начал он и запнулся. Он хотел было спросить, почему Онуте сидела в тюрьме, но не решился и спросил: — А почему ты так хорошо говоришь по-русски?
— А у меня мама была русская, — ответила Онуте. — Она со мной всегда по-русски разговаривала. А папа — литовец. Он на кондитерской фабрике работал.
— Это хорошо, — сказал Миша. — Значит, конфеты приносил.
— Ни, — покачала Онуте головой, — приносить нельзя. Зато от него всегда вкусно пахло так… Я его всегда нюхала.
Они вышли к широкой реке. Блестя на солнце, она быстро текла между зелёными берегами.
Онуте показала на реку:
— А вот это наша Нерис.
Миша вынул красную книжечку и стал записывать: «Нерис». Онуте привстала на цыпочки, заглянула:
— Что ты пишешь?
— Ничего… Дневник. Я ведь путешественник.
— Путешественник? Ой, я ещё никогда не видела путешественников!
Миша улыбнулся:
— Ну вот, сейчас видишь!
Он засунул книжечку в карман. Они пошли вдоль набережной.
Через реку был перекинут мост. Во всю его длину работали красноармейцы — полуголые, без гимнастёрок. Они ловко орудовали топорами. Их загорелые спины маслянисто блестели.
Мост был новенький и весело сверкал чистыми, светло-жёлтыми, точно сливочное масло, брёвнами. Пахло лесом, сосной, смелой. Ветер играл сухими, завитыми в пружинки стружками, катил их по настилу, сбрасывал в воду.
Высокий, широкоплечий, загорелый красноармеец устанавливал в голове моста дощечку с надписью:
МОСТ ВОССТАНОВЛЕН БОЙЦАМИ
ТРЕТЬЕГО БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА.
АВГУСТ, 1944.
Миша подошёл к нему:
— Товарищ красноармеец, можно нам пройти на ту сторону?
Красноармеец вытер голым локтем потный лоб и сказал:
— Отчего ж? — Он взмахнул топором, лезвие которого сверкнуло на солнце. — Шагай, ребятки, обновляй! Мосточек надёжный.
— Спасибо!
И Миша и Онуте перешли на ту сторону реки Нерис — обновили мост.
— Вот здесь Зверинец, — сказала Онуте.
При слове «Зверинец» Мише представлялся Московский зоопарк: пруд с важными чёрными и белыми лебедями и суматошными утками, широкие аллеи, слоновник, площадка, где катают на осликах малышей и где всё время тренькают бубенчики: динь-динь, динь-динь…
А здесь?..
Перед Мишей простиралась широкая немощёная улица. Когда-то она была, видно, зелёной, потому что вдоль узких тротуаров торчали обугленные стволы. За ними видны были разрушенные дома.
Там, в центре, на Страшун-улице, да и в других местах, где дома большие, многоэтажные, — там хоть стены остались. А здесь, на окраине, и того не было.
Груды битого кирпича, чёрных брёвен и головешек безотрадной вереницей тянулись одна за другой во всю длину улицы, насколько хватал глаз.
Наверно, все дома здесь были одинаковые, потому что развалины были очень похожи друг на друга.
Миша с трудом поспевал за Онуте, которая теперь уже не семенила, а шла довольно быстро. Её босые ноги оставляли в пыли, перемешанной с пеплом, ямки. Миша шёл за ней, стараясь не наступать на эти ямки.
— Онуте, — крикнул он, — вы тут жили, да? Где же ваш дом?
Онуте не ответила. Вот она остановилась у одной груды развалин. Ветер с реки трепал её длинное, не по росту, платье.
Миша не выдержал: — Онуте, где же ваш дом?
Онуте молчала, растерянно оглядываясь. Внизу, на реке, весело перестукивались топоры. Один повторял: тут-тут-тут! Другой словно спорил: там-там-там!
Онуте стояла с понурой головой, и казалось, будто она внимательно прислушивается к разговору топоров.
Наконец она подняла голову и тихо сказала:
— Не знаю…
— Чего — не знаю?
— Не знаю, где дом, — еле слышно повторила Онуте.
Миша удивился:
— Как же ты не знаешь? Ведь вы там жили.
Онуте снова стала беспомощно оглядываться:
— Если бы всё целое было… Если бы хоть печка…
— Какая печка?
— Большая такая, белая. Меня папа учил писать… Я гвоздиком на печке нацарапала «О» и «П». То мои буквы: Онуте Петраускайте.