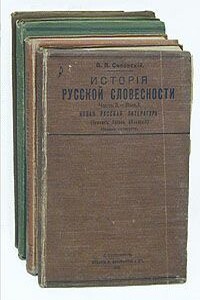По обе стороны утопии - [9]
В отношении оксюморонного соединения жизни и смерти[50], башни и гроба «Котлован» можно сравнить с поэмой Алексея Гастева «Башня»[51], написанной в 1913 году под впечатлением от Эйфелевой башни в Париже, в которой также устанавливается связь между утопической башней и смертельной пропастью. Как следует из другого текста того же цикла, рождение современной технической культуры связывается с мотивом Вавилонской башни: «Мы исполним грезу первых мучеников мысли, загнанных пророков человеческой силы, великих певцов железа. Вавилонским строителям через сто веков мы кричим: снова дышат огнем и дымом ваши порывы, железный жертвенник поднят за небо, гордый идол работы снова бушует»[52].
В духе пролетарской традиции автор понимает сооружение Вавилонской башни как акт прометеева бунта, цель которого — «новый сегодня не знаемый нами, краса-восхищение, первое чудо вселенной, бесстрашный работник — творец-человек»[53]. Но строители дорого платят за свой гордый бунт: «Руки и ноги ломались, в отчаянных муках люди падали в ямы, земля их нещадно жрала»[54]. Упоминание о «городе смерти подземном»[55] как бы предвосхищает некрополь платоновского «Котлована». Как и у Платонова, в «Башне» присутствует намек на возможность обмана. Если башня — мираж, то остается только «бездонная пропасть — могила»[56]. Но, несмотря на все катастрофы и жертвы, у Гастева преобладает вера в «дерзостный башенный мир»[57].
Трагический оптимизм предшественника, окрашенный ницшеанским духом, чужд Платонову. 1930 год — уже не время для пролетарского утопизма. В «Котловане» идея будущей башни изначально чревата гибелью: здесь не строят дом, а роют всепожирающую яму. Если благородная цель у Гастева оправдывает жертвы, то в «Котловане» царит атмосфера абсурда. Строители истощают свои силы и тела в акте строения-разрушения. Чем грандиознее планы будущей башни, тем больше размеры ямы. Таким образом, «Котлован» прямо означает ту перевернутую пролетарскую утопию, в которую Платонов когда-то сам веровал. Кроме того, идея увеличения котлована «не вчетверо, а в шесть раз» принадлежит не конструктору, не рабочим, а оппортунисту Пашкину, который хочет «забежать вперед партийной линии, чтобы впоследствии радостно встретить ее на чистом месте» (65).
Но вернемся к мотиву Вавилонской башни: у Гастева он звучит более явно, чем у Платонова. Еще более отчетливо этот мотив проявляется у Луначарского, идеолога богостроительства. В его книге «Религия и социализм» потомки Каинитов, бунтуя вместе со Светоносцем (т. е. Люцифером) против небесной силы, начинают строить «вечную башню культуры»[58]. В интерпретации Луначарского Вавилон — «город великий, страстный, страдающий, исполинский Всегород людской»[59]. Несмотря на то, что в наказание строители башни разделяются на разные нации, они продолжают свою работу, чтобы «соединить человечество воедино, тогда рай будет отнят назад и небо будет взято штурмом, проклятие Элогимов потеряет свою силу»[60]. Архитектор столпа вавилонского — это дух познания и бунта.
Путь прометеевского возмущения и строительства Вавилонской башни человеческой культуры — мучительный, но неизбежный процесс борьбы с природной стихией: «Человек шел, как мог, спотыкался, падал, терзал себя об острые камни, валился снова сверху в пропасть, и снова начинал свой путь Сизифа. И еще скалы, ущелья и потоки перед ним. Но уже видна светлая вершина горы»[61]. В трагико-оптимистическом богоборческом пафосе Луначарского нетрудно обнаружить корни «Башни» Гастева. Пролетариат призван завершить задачу строения культуры — соединить разбросанное человечество и вернуть утраченный рай.
Мысли Луначарского отсылают прямо к Достоевскому, с которым идеолог богостроительства ведет скрытую полемику. В борьбе с утопическим мышлением Достоевский не раз принимает на вооружение библейский миф о вавилонском столпотворении. Так, например, «Легенда о Великом инквизиторе» содержит ряд деталей, на которые откликнулся Луначарский. У Достоевского «страшная вавилонская башня» воздвигается на месте разрушенного Божьего храма. Так как Христос отказывается сократить тысячелетнее страдание и муки людей, измученные люди обращаются к Великому инквизитору за помощью: «И тогда уже мы и достроим их башню, ибо достроит тот, кто накормит, а накормим лишь мы»[62]. Слабосильные бунтовщики готовы отдать свободу за хлеб, за счастье стада. В легенде Достоевского башня связывается с потребностью всемирного и всеобщего соединения людей, с созданием «общего и согласного муравейника»

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Книга известного литературоведа посвящена исследованию самоубийства не только как жизненного и исторического явления, но и как факта культуры. В работе анализируются медицинские и исторические источники, газетные хроники и журнальные дискуссии, предсмертные записки самоубийц и художественная литература (романы Достоевского и его «Дневник писателя»). Хронологические рамки — Россия 19-го и начала 20-го века.

В книге делается попытка подвергнуть существенному переосмыслению растиражированные в литературоведении канонические представления о творчестве видных английских и американских писателей, таких, как О. Уайльд, В. Вулф, Т. С. Элиот, Т. Фишер, Э. Хемингуэй, Г. Миллер, Дж. Д. Сэлинджер, Дж. Чивер, Дж. Апдайк и др. Предложенное прочтение их текстов как уклоняющихся от однозначной интерпретации дает возможность читателю открыть незамеченные прежде исследовательской мыслью новые векторы литературной истории XX века.

В книге рассматриваются индивидуальные поэтические системы второй половины XX — начала XXI века: анализируются наиболее характерные особенности языка Л. Лосева, Г. Сапгира, В. Сосноры, В. Кривулина, Д. А. Пригова, Т. Кибирова, В. Строчкова, А. Левина, Д. Авалиани. Особое внимание обращено на то, как авторы художественными средствами исследуют свойства и возможности языка в его противоречиях и динамике.Книга адресована лингвистам, литературоведам и всем, кто интересуется современной поэзией.

Если рассматривать науку как поле свободной конкуренции идей, то закономерно писать ее историю как историю «победителей» – ученых, совершивших большие открытия и добившихся всеобщего признания. Однако в реальности работа ученого зависит не только от таланта и трудолюбия, но и от места в научной иерархии, а также от внешних обстоятельств, в частности от политики государства. Особенно важно учитывать это при исследовании гуманитарной науки в СССР, благосклонной лишь к тем, кто безоговорочно разделял догмы марксистско-ленинской идеологии и не отклонялся от линии партии.