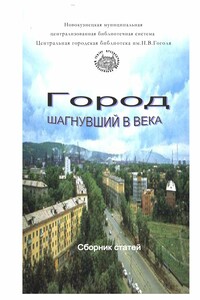Перемена взгляда: XX Век - [157]
Почти все эти сущности носят на себе следы собственного радикального исчезновения, своей смерти. Для большинства эти наполовину животные, наполовину человеческие тела вернулись «с той стороны зеркала»: трупы из фильма «Бэтмен: возвращение», скелеты и существа с содранной кожей из «Армии тьмы» Сэма Рэйми, вечно живые мертвецы Земекиса, роботы–фантомы в «Терминаторе», навязчивые образы «Шоссе в никуда» или «Малхолланд–драйв» Дэвида Линча. Чаще всего речь идет об их «возвращении»: исчезнув, они способны жить, выживать лишь в повторении травматизма своей собственной смерти, именно в многозначном возобновлении этого момента состоит самое глубокое впечатление фильма. Во втором эпизоде своих приключений Бэтмен лишь «возвращается», неся за собой свои атрибуты или, скорее, своих alter ego: плесень разъедает лицо Пингвина, швы покрывают привычный костюм Женщины–Кошки, рубцы намекают на ее недавнюю смерть после падения с тридцатого этажа башни Шрека и впоследствии на ее окончательное превращение в живого мертвеца благодаря кошачьим когтям. Этот травматический опыт, смерть, которую можно «обратить вспять» благодаря фильму, необходимы режиссерам, поскольку они выявляют двойной принцип наслаждения и страха, лежащий в основе любой воображаемой конструкции[1123]. Каждое из этих невероятных существ (с равным успехом можно говорить о гремлинах, гниющих и смердящих как труп, как о вырождении первоначального плюшевого Гизмо) ведомо двойной линией свойств, заимствованных у самой смерти[1124] как испытание и как нечто таинственно–эфемерное. Мы видим одновременно секс–бомбу (Женщина–Кошка тут первая) и облик ужаса — разрезанный и склеенный. Исчезновение и возрождение тел позволяет этим фильмам соединить принцип страха и принцип удовольствия, бесконечно длить наслаждение страхом перед собственным телом. Рубцы, швы, зазоры, незавершенность, следы мутации в таких фильмах становятся символами, извращенными и отвратительными (но и зачаровывающими) следствиями всемогущества кино, способного склеивать картинки одну с другой. В конце концов, это кинематографическое тело не может умереть, оно может лишь исчезать и появляться снова, питаемое воспоминаниями, памятью, наследием образов, а также искажением этой памяти и этого наследия[1125].
Таким образом, кинематограф трупов заставляет помнить, что он не может исчезнуть, что он сопротивляется исчезновению с помощью замысловатых мутаций, удивительных трансформаций или упорных перевоплощений. Он обзавелся героем, которого можно назвать «бессмертным», буквально «не способным умереть»: человеком–животным или человеком–машиной, вынужденным вечно переносить испытания, которым подвергается его тело, для того и созданное[1126]. В этом смысле Терминатор Джеймса Кэмерона — самое интересное тело, выдуманное за последние двадцать лет[1127], — крутой гений бессмертия, созданный из первоначальной смерти, случившейся еще до начала фильма (Шварценеггер — это тело, собранное из мертвых органов и инертных объектов), и из финальной катастрофы (образы Страшного суда овладевают душами). Аналогично с помощью примитивизма (Бертон, Рэйми, Крэйвен, Джо Данте, Линч), кибернетики (Кэмерон), силы визуальных образов (Земекис, Шьямалан) или используемых до предела всех трех этих сил большая часть новых американских фильмов в конце концов приходит к следующему абсолютному принципу: тело не может умереть полностью, поскольку исторически ограниченную жизненную силу сегодня заменило полное осознание (и всемогущество) производства представлений. Базен определял сущность кинематографа как запись встречи хищника и его жертвы, как смерть за работой в кадре. Новое американское кино не может себя так определить, поскольку исчезновение немедленно вызывает воспроизводство и новое появление: смерть больше не является решающим испытанием кадра. Лишенный этого испытания, этого верховного судьи, он принужден верить постоянным виртуальным эффектам воспроизводства тел. Одна линия всегда вызывает другую, один образ постоянно прячет другой, и даже мертвое тело возрождается, как удивительный кибернетический Шварценеггер.
Если кинематограф обречен быть менее гуманным, возможно, он спасет себя, будучи более политическим. В конечном счете травматический опыт тел несет в себе политическую цель, соответствующую обществу, которое мечтает о стабильности социальной ткани. Кинематограф, работающий за счет расщепления, расчленения, разрушения, чтобы потом склеивать истории, образы и тела, оказывается троянским конем, которого Голливуд помещает в юношеский рассудок. То, что он разрезает и потом составляет заново, — это и есть социальная ткань, ставшая из–за этих ножниц и иголок глубоко нестабильной. С одной стороны, он питается знаками стабильности, поскольку на самом деле здесь все рождается из покоя и гармонии: приятные пастельные городки, с которых начинаются «Битлджюс» и «Эдвард Руки–ножницы», любимчик Гизмо у Данте, нормальный дом в начале «Людей под лестницей» у Крэйвена, блестки музыкальной комедии в «Смерть ей к лицу». Это нужно для того, чтобы отвлечь зрителя мирной обстановкой, сбить с толку гармонией. Мы быстро замечаем, что палитры маленьких городов Тима Бертона предназначены лишь для того, чтобы породить мрачного монстра, оживленного мертвеца, который придет позже, чтобы взбудоражить эти места, доставить им наслаждение, угрожая им. Точно так же дом у Уэса Крэйвена умудряется скрывать беспокойство и ужас под своими лестницами. Или гремлины, точное подобие плюшевых игрушек из комнат маленьких девочек (и связанные с ними сложным происхождением), изощряются в свершении социального зла, систематически нарушая запреты и разрушительно используя все, что попадает им в руки. Эти образы помещают чудовищное туда, где Америка хотела бы видеть образ покоя, они уничтожают гармонию, пожирая ее, переваривая, а потом сплевывая, — в злодейской и одновременно бурлескной манере. Это определяет отношение к миру, общее для всех антигероев данных режиссеров, — булимию знаков. Также это указывает их место: они располагаются между объектами коммуникации (телевидение, киномания, тела), чтобы поймать их сообщения и проявления и заснять их с противоположной точки, гротескной и устрашающей. Телевидение и кино пожираются изнутри. И наоборот, так же как они перехватывают обычные сообщения коммуницирующих машин, путают их и извращают, эти персонажи устанавливают связь с тем, что ранее могло сообщаться лишь при помощи установленных пристойных правил (политически корректного языка). Именно они через ряд мутаций смешивают различные народы, меньшинства, открывают пути перехода между детством и смертью, приличным и непристойным, гигиеной и тлением, между живыми и трупами. Спутывая привычные знаки гармонии, смешивая заведомо несовместимые части тел и культур, созданные мутациями разнородного, в результате эти фильмы предлагают в высшей степени подрывной политический сдвиг. Они заставляют окончательно исчезнуть саму форму американской мечты

В книге рассматриваются отдельные аспекты деятельности Союза вооруженной борьбы, Армии Крайовой и других военизированных структур польского националистического подполья в Белоруссии в 1939–1953 гг. Рассчитана на историков, краеведов, всех, кто интересуется историей Белоруссии.

В книге Тимоти Снайдера «Кровавые земли. Европа между Гитлером и Сталиным» Сталин приравнивается к Гитлеру. А партизаны — в том числе и бойцы-евреи — представлены как те, кто лишь провоцировал немецкие преступления.

Настоящая книга – одна из детально разработанных монографии по истории Абхазии с древнейших времен до 1879 года. В ней впервые систематически и подробно излагаются все сведения по истории Абхазии в указанный временной отрезок. Особая значимость книги обусловлена тем, что автор при описании какого-то события или факта максимально привлекает все сведения, которые сохранили по этому событию или факту письменные первоисточники.
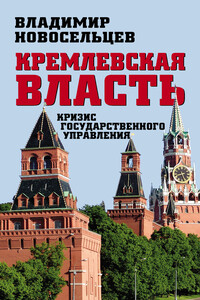
Более двадцати лет Россия словно находится в порочном замкнутом круге. Она вздрагивает, иногда даже напрягает силы, но не может из него вырваться, словно какие-то сверхъестественные силы удерживают ее в непривычном для неё униженном состоянии. Когда же мы встанем наконец с колен – во весь рост, с гордо поднятой головой? Когда вернем себе величие и мощь, а с ними и уважение всего мира, каким неизменно пользовался могучий Советский Союз? Когда наступит просветление и спасение нашего народа? На эти вопросы отвечает автор Владимир Степанович Новосельцев – профессор кафедры политологии РГТЭУ, Чрезвычайный и Полномочный Посол в отставке.

В интересной книге М. Брикнера собраны краткие сведения об умирающем и воскресающем спасителе в восточных религиях (Вавилон, Финикия, М. Азия, Греция, Египет, Персия). Брикнер выясняет отношение восточных религий к христианству, проводит аналогии между древними религиями и христианством. Из данных взятых им из истории религий, Брикнер делает соответствующие выводы, что понятие умирающего и воскресающего мессии существовало в восточных религиях задолго до возникновения христианства.

Мэрилин Ялом рассматривает историю брака «с женской точки зрения». Героини этой книги – жены древнегреческие и древнеримские, католические и протестантские, жены времен покорения Фронтира и Второй мировой войны. Здесь есть рассказы о тех женщинах, которые страдали от жестокости общества и собственных мужей, о тех, для кого замужество стало желанным счастьем, и о тех, кто успешно боролся с несправедливостью. Этот экскурс в историю жены завершается нашей эпохой, когда брак, переставший быть обязанностью, претерпевает крупнейшие изменения.

Пятитомная «История частной жизни» — всеобъемлющее исследование, созданное в 1980-е годы группой французских, британских и американских ученых под руководством прославленных историков из Школы «Анналов» — Филиппа Арьеса и Жоржа Дюби. Пятитомник охватывает всю историю Запада с Античности до конца XX века. В первом томе — частная жизнь Древнего Рима, средневековой Европы, Византии: системы социальных взаимоотношений, разительно не похожих на известные нам. Анализ институтов семьи и рабовладения, религии и законотворчества, быта и архитектуры позволяет глубоко понять трансформации как уклада частной жизни, так и европейской ментальности, а также высвечивает вечный конфликт частного и общественного.
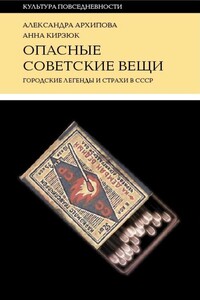
Джинсы, зараженные вшами, личинки под кожей африканского гостя, портрет Мао Цзедуна, проступающий ночью на китайском ковре, свастики, скрытые в конструкции домов, жвачки с толченым стеклом — вот неполный список советских городских легенд об опасных вещах. Книга известных фольклористов и антропологов А. Архиповой (РАНХиГС, РГГУ, РЭШ) и А. Кирзюк (РАНГХиГС) — первое антропологическое и фольклористическое исследование, посвященное страхам советского человека. Многие из них нашли выражение в текстах и практиках, малопонятных нашему современнику: в 1930‐х на спичечном коробке люди выискивали профиль Троцкого, а в 1970‐е передавали слухи об отравленных американцами угощениях.

Оноре де Бальзак (1799–1850) писал о браке на протяжении всей жизни, но два его произведения посвящены этой теме специально. «Физиология брака» (1829) – остроумный трактат о войне полов. Здесь перечислены все средства, к каким может прибегнуть муж, чтобы не стать рогоносцем. Впрочем, на перспективы брака Бальзак смотрит мрачно: рано или поздно жена все равно изменит мужу, и ему достанутся в лучшем случае «вознаграждения» в виде вкусной еды или высокой должности. «Мелкие неприятности супружеской жизни» (1846) изображают брак в другом ракурсе.