Печальные времена - [13]
В чем философский смысл сочинения Дамаския? Ограничивается ли он анализом слова и речи вообще? Конечно, нет. Язык, манера исполнения и тематика публикуемого трактата могут привести к пониманию его как сугубо теологического текста. Древний человек верит, что есть сверхъестественное нечто, о котором мы говорим какие-то слова, доверяясь либо традиции, либо собственному наитию. Возникает вопрос: можно ли найти какое-либо разумное обоснование нашим попыткам? Именно такой видели цель своих рассуждений многие философы поздней античности, жившие еще до Плотина. Поскольку в платонической традиции такое сверхъестественное нечто, или божество, понималось как единое-благо, у Дамаския, не только начинающего свои штудии с вопроса о взаимоотношении единого начала всего и самого всего, но и не оставляющего данный вопрос без внимания на протяжении всего трактата, это можно прочитать именно описанным образом. Но на самом деле сочинение последнего схоларха Академии значительно сложнее. Выражаясь языком более близкой нам по времени философии, за апофатической проблематикой неоплатоников вообще и, в частности, Дамаския стоит тема трансцендентного, аккумулирующая в себе все то, что мы говорили выше о языковой реальности.
Что представляет собой чувственное многообразие явлений, с пребыванием в котором мы обычно связываем местоположение своего «я»? Ответ на этот вопрос может быть тавтологичным — оно есть всего лишь чувственное многообразие. Но что проводит горизонт нашего взора, слуха, восприятия в целом? Благодаря чему мы выделяем и различаем, не теряемся в бесконечности этого чувственного многообразия, а можем говорить о своем восприятии как о некой целостности и, следовательно, единстве? Аристотель (а вслед за ним и Кант) скажет: различает само чувство. Однако, чтобы объяснить, отчего различение не сопровождается дроблением воспринимаемого на аморфное множество, Стагирит вводит представление о т. н. общих чувствах[74] привносящих во все многообразие ощущаемого первый элемент синтеза, фигура - тивности того, что в чистом различении было бы бесформенно.
Итак, «все» нам дано как целостность. Но что же дает ее именно таким образом? Быть может, «общие чувства», врожденные душевным органам восприятия? Но, может быть, мир целостен и фигуративен помимо наших «общих чувств»? Иначе говоря, в чем гарантия адекватности нашего восприятия воспринимаемому? Идя по проторенному пути многочисленных историко-философских работ, можно было бы сказать: Кант ограничивает наши вопросы абстракцией вещи-в-себе, которая выносит за скобки вопрос о «внешнем» единстве. Античность же, выступая с точки зрения «здравости», говорит о возможностном совпадении той картины, которую создает наше восприятие, и реального положения дел, совпадении, воспитываемом в себе человеком, обратившимся к мудрости. Следовательно, для античных философов единство — ив восприятии, и во «всем».
Но ведь и Кант не был лишен здравого смысла до такой степени, чтобы выступать с позиций скептического солипсизма. Другое дело, что он стремился показать ограниченность круга законных (научных) вопросов, отчего и обращался к архитектонике и схематизму познающего разума (познающего субъекта). Точно так же и античность, не погружаясь в солипсизм, в лице скептиков создала даже не философскую школу, а целое культурное течение, исходившее из невозможности однозначного высказывания о чем-либо, в том числе и о принципе, основании целостности сущего (причем как сущего, данного в восприятии, так и сущего самого-по-себе).
Оставляя в стороне новоевропейскую философию с ее субъектностью, укажем, что бытие мира — в аспекте как воспринимающего, так и воспринимаемого — для античной культуры являлось очевидностью. Другое дело — вопрос о том, как эта очевидность может быть помыслена (и может ли быть она помыслена вообще?).
В отличие от Аристотеля, Платон и его последователи считали, что различает разум, и такое представление вводит в наш обиход не совсем привычную для европейского интеллектуализма систему координат. В известном смысле Платон ближе Востоку, чем Западу. У платоников разум был той силой, которая вызывает отделение, отличение нас [75] от единства — отделение, которое с неизбежностью приводит к постановке в разуме вопроса о собственном источнике. Это не означает, что последователи Платона являлись апологетами непосредственного восприятия или возведения в себе чувственности на мистические высоты. Однако уже одно принятие триады диалога Платона «Софист» (бытие—жизнь—ум), где интеллектуальное занимает лишь третье место, указывает нам на то, что разделявшееся любым философом мнение о превосходстве разумения на чувственным восприятием еще не означает, что ум занимает абсолютно привилегированное, центральное положение, вокруг которого обустраиваются все остальные стороны сущего. Ум — третье; без жизни и бытия он невозможен

Эта книга об истории и о нас одновременно. Эллада после смерти Александра Великого, Шумер легендарного Гильгамеша, Древний Рим времен трагедии в Тевтобургском лесу — со всем этим читатель встретится в книге. Со всем этим и с самим собой: любящим, ненавидящим, радующимся и печалящимся. Ибо прелесть этой книги не столько в исторической экзотике, сколько в ощущении единства прошлого и настоящего, в романтике искренних чувств и искренних красок.
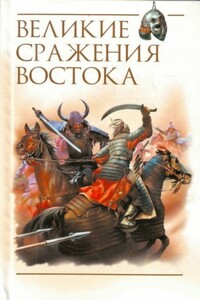
Военная история Востока известна гораздо хуже европейской (во всяком случае, массовой аудитории), хотя по своим масштабам, ожесточенности, вкладу в развитие военного искусства и влиянию на мировую историю многие азиатские сражения превосходят самые знаменитые битвы средневековой Европы – Гастингс и Баннокберн, Креси и Азенкур меркнут по сравнению с войнами арабо-мусульманского мира, Золотой Орды, Индии, Китая или Японии.Новая книга проекта «Войны мечей» посвящена величайшим сражениям Востока за полторы тысячи лет – от грандиозных битв эпохи Троецарствия до завоевания Индии Великими Моголами, от легендарных походов Чингисхана до разгрома японского флота первыми корейскими «броненосцами» (1592 г.), от беспощадной схватки Тамерлана с Тохтамышем до становления сегуната Токугава.
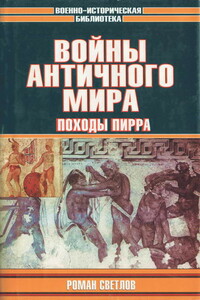
Перед вами первая книга о легендарном греческом полководце царе Пирре. Пирр дважды захватывал Македонию и возлагал на себя диадему Александра. Он принимал участие в крупнейшей битве той эпохи при Ипсе. Пирру довелось столкнуться практически со всеми военными системами времени: от македонских фалангистов и спартанских гоплитов до римских легионеров, ополчений южноиталийских горцев и карфагенского флота. Из большинства сражений он выходил победителем. Как полководца его оценивали очень высоко и современники, и потомки.

Действие мистического триллера «Сон Брахмы» разворачивается накануне Миллениума. Журналист Матвей Шереметьев, разгадывая тайну одной сгоревшей церкви, приходит к ужасному предположению: а что, если конец света уже наступил и нашего мира на самом деле не существует – мы лишь снимся дремлющему Богу?

Эта книга об истории и о нас одновременно. Эллада после смерти Александра Великого, Шумер легендарного Гильгамеша, Древний Рим времен трагедии в Тевтобургском лесу — со всем этим читатель встретится в книге. Со всем этим и с самим собой: любящим, ненавидящим, радующимся и печалящимся. Ибо прелесть этой книги не столько в исторической экзотике, сколько в ощущении единства прошлого и настоящего, в романтике искренних чувств и искренних красок.

Эта книга об истории и о нас одновременно. Эллада после смерти Александра Великого, Шумер легендарного Гильгамеша, Древний Рим времен трагедии в Тевтобургском лесу — со всем этим читатель встретится в книге. Со всем этим и с самим собой: любящим, ненавидящим, радующимся и печалящимся. Ибо прелесть этой книги не столько в исторической экзотике, сколько в ощущении единства прошлого и настоящего, в романтике искренних чувств и искренних красок.

Верно ли, что речь, обращенная к другому – рассказ о себе, исповедь, обещание и прощение, – может преобразить человека? Как и когда из безличных социальных и смысловых структур возникает субъект, способный взять на себя ответственность? Можно ли представить себе радикальную трансформацию субъекта не только перед лицом другого человека, но и перед лицом искусства или в работе философа? Книга А. В. Ямпольской «Искусство феноменологии» приглашает читателей к диалогу с мыслителями, художниками и поэтами – Деррида, Кандинским, Арендт, Шкловским, Рикером, Данте – и конечно же с Эдмундом Гуссерлем.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Лешек Колаковский (1927-2009) философ, историк философии, занимающийся также философией культуры и религии и историей идеи. Профессор Варшавского университета, уволенный в 1968 г. и принужденный к эмиграции. Преподавал в McGill University в Монреале, в University of California в Беркли, в Йельском университете в Нью-Хевен, в Чикагском университете. С 1970 года живет и работает в Оксфорде. Является членом нескольких европейских и американских академий и лауреатом многочисленных премий (Friedenpreis des Deutschen Buchhandels, Praemium Erasmianum, Jefferson Award, премии Польского ПЕН-клуба, Prix Tocqueville). В книгу вошли его работы литературного характера: цикл эссе на библейские темы "Семнадцать "или"", эссе "О справедливости", "О терпимости" и др.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«Что такое событие?» — этот вопрос не так прост, каким кажется. Событие есть то, что «случается», что нельзя спланировать, предсказать, заранее оценить; то, что не укладывается в голову, застает врасплох, сколько ни готовься к нему. Событие является своего рода революцией, разрывающей историю, будь то история страны, история частной жизни или же история смысла. Событие не есть «что-то» определенное, оно не укладывается в категории времени, места, возможности, и тем важнее понять, что же это такое. Тема «события» становится одной из центральных тем в континентальной философии XX–XXI века, века, столь богатого событиями. Книга «Авантюра времени» одного из ведущих современных французских философов-феноменологов Клода Романо — своеобразное введение в его философию, которую сам автор называет «феноменологией события».