Печальные времена - [15]
Поэтому-то основной интерес у Дамаския вызывает вторая гипотеза «Парменида», где речь идет уже о данности единства, о присутствии условия в обусловленном, то есть о едином сущем. Здесь и пребывает само царство языка, тождественное царству мысли. Платон, по мнению афинских неоплатоников, высказывает здесь все, что только может быть высказано в соответствии с истиной. Но при этом бытие как таковое не становится более определимым: оно само вне дискурса, ибо, прилагая к нему различные смысловые формы (от целого и частей до временных характеристик), мы, конечно, говорим о чем-то бытийном, но не о том, что в суждении сказывается как предикат («нечто есть» — в данном высказывании бытие описывает нечто, не становясь от этого само более понятным, описуемым; бытие дано как потенциально бесконечное множество бытийных вещей[83]). Такое бытие Дамаский — вполне в традициях позднего платонизма (испытавшего определенное влияние Аристотеля) — именует сущностью (не наделяя ее перипатетическим смыслом «вот этого» [84]). С именем «сущность» у него оказывается связанным обширный круг вопросов, анализировать который здесь просто бессмысленно, так как предел и беспредельное, часть и целое, элемент и сущность, атом и генада, число и исчисляемое и т. д. являются предметом терминологических и логических исканий всего неоплатонизма в целом. Дамаский во многом повторяет традиционные для афинского неоплатонизма положения; не менее часто он оказывается ближе к Ямвлиху и Сириану, чем к Плотину или Проклу [85]. Однако нужно заметить, что и эти рассуждения нашего автора имеют исключительно правдоподобный характер, не претендуя на установление научной истины. Речь идет о том, что находится на грани способности высказывания, о том, что Аристотель считал всего лишь категориальными формами нашего языка (а потому сущностями «во втором смысле данного слова»), то есть о том, что в речи является описывающим, а не описываемым. Когда же оно превращается в предмет рассмотрения, вместо понятия мы получаем имя. Потому-то о логическом выводе Дамаский начинает говорить лишь в 235-м параграфе сочинения, когда он переходит от умопостигаемого и умопостигаемо-умного бытия к собственно умному (в тексте диалога Платона «Парменид» ему соответствуют, согласно неоплатоническому толкованию, рассуждения о наличии у единого сущего предела и, следовательно, фигуры — см. 145а).
Очевидно, что, говоря о бытии (и соответственно о жизни и уме), Дамаский не стремится к созданию максимально непротиворечивой научной конструкции. Он хочет быть наиболее здравым и правдоподобным, и потому речь его является не свидетельством торжества логической необходимости, а поиском наиболее соответствующих, наиболее близких предмету слов и имен. При этом он с увлечением использует тексты, претендующие на боговдохновенность, особенно «Халдейские оракулы» и сочинения, подписанные именем Орфея. В данном аспекте его трактат, несомненно, является теологическим. Но это особая форма теологии, отличающаяся от христианской не только по признаку используемых сакральных текстов.
Отношение к религиозной материи может быть двояким. Одно — то, которое утвердилось в христианстве и которое, разумеется, было характерно для древнего язычества, но так и не стало превалирующим в позднейшей языческой философии,— отношение, идущее от священного знания, от откровения, дарованного сверхъестественным началом[86] Такого рода знание, конечно, будет с ощущением внутреннего превосходства относиться к «умствованию», подвергающему осторожному сомнению то сверхъестественное, свидетельств чего оно не может усмотреть в себе. Второе отношение можно, по отдаленной аналогии, назвать «пелагианским». Оно подразумевает раскрытие необходимости религиозного элемента в самом опыте познания и самопознания. Здесь мышление — основное средство самопознания — претендует на то, чтобы оказаться путем к созерцанию божественного. И Платон, и Аристотель, и академики эпохи эллинизма, и большинство остальных философов античности были близки ко второму типу отношения. Неоплатоники также принадлежат к этой традиции. Разумеется, и среди них велись споры о пределах недоверия откровениям и традиционным мнениям о богах, примером каковых может быть известное письмо Порфирия к египетскому жрецу Анебону и ответ на это письмо Ямвлиха [87]. Однако в любом случае все откровенное или традиционное в неоплатонизме проходит обработку разумом, чаще выступая иллюстрацией к философским схемам, нежели оказываясь причиной их построения. Пожалуй, в этом языческая философия и христианское богословие в своих исторических итогах никогда не могут быть примирены друг с другом, сколь бы много общих для них обоих моментов ни существовало во времена Дамаския. Личностный опыт Плотина, Ямвлиха или Прокла, исторически родственный тому опыту, результатом которого было принятие христианства большинством населения Средиземноморья, тем не менее неразрывно связан с деятельностью их самосознания и не выходит за рамки традиции, формировавшей их интеллектуальную культуру, а потому в результате так и остается для христианских авторов «умствованием».

Эта книга об истории и о нас одновременно. Эллада после смерти Александра Великого, Шумер легендарного Гильгамеша, Древний Рим времен трагедии в Тевтобургском лесу — со всем этим читатель встретится в книге. Со всем этим и с самим собой: любящим, ненавидящим, радующимся и печалящимся. Ибо прелесть этой книги не столько в исторической экзотике, сколько в ощущении единства прошлого и настоящего, в романтике искренних чувств и искренних красок.
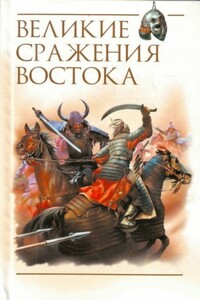
Военная история Востока известна гораздо хуже европейской (во всяком случае, массовой аудитории), хотя по своим масштабам, ожесточенности, вкладу в развитие военного искусства и влиянию на мировую историю многие азиатские сражения превосходят самые знаменитые битвы средневековой Европы – Гастингс и Баннокберн, Креси и Азенкур меркнут по сравнению с войнами арабо-мусульманского мира, Золотой Орды, Индии, Китая или Японии.Новая книга проекта «Войны мечей» посвящена величайшим сражениям Востока за полторы тысячи лет – от грандиозных битв эпохи Троецарствия до завоевания Индии Великими Моголами, от легендарных походов Чингисхана до разгрома японского флота первыми корейскими «броненосцами» (1592 г.), от беспощадной схватки Тамерлана с Тохтамышем до становления сегуната Токугава.
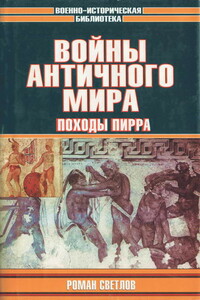
Перед вами первая книга о легендарном греческом полководце царе Пирре. Пирр дважды захватывал Македонию и возлагал на себя диадему Александра. Он принимал участие в крупнейшей битве той эпохи при Ипсе. Пирру довелось столкнуться практически со всеми военными системами времени: от македонских фалангистов и спартанских гоплитов до римских легионеров, ополчений южноиталийских горцев и карфагенского флота. Из большинства сражений он выходил победителем. Как полководца его оценивали очень высоко и современники, и потомки.

Действие мистического триллера «Сон Брахмы» разворачивается накануне Миллениума. Журналист Матвей Шереметьев, разгадывая тайну одной сгоревшей церкви, приходит к ужасному предположению: а что, если конец света уже наступил и нашего мира на самом деле не существует – мы лишь снимся дремлющему Богу?

Эта книга об истории и о нас одновременно. Эллада после смерти Александра Великого, Шумер легендарного Гильгамеша, Древний Рим времен трагедии в Тевтобургском лесу — со всем этим читатель встретится в книге. Со всем этим и с самим собой: любящим, ненавидящим, радующимся и печалящимся. Ибо прелесть этой книги не столько в исторической экзотике, сколько в ощущении единства прошлого и настоящего, в романтике искренних чувств и искренних красок.

Эта книга об истории и о нас одновременно. Эллада после смерти Александра Великого, Шумер легендарного Гильгамеша, Древний Рим времен трагедии в Тевтобургском лесу — со всем этим читатель встретится в книге. Со всем этим и с самим собой: любящим, ненавидящим, радующимся и печалящимся. Ибо прелесть этой книги не столько в исторической экзотике, сколько в ощущении единства прошлого и настоящего, в романтике искренних чувств и искренних красок.

Трактат бельгийского философа, вдохновителя событий Мая 1968 года и одного из главных участников Ситуационистского интернационала. Издан в 2019 году во Франции и переведён на русский впервые. Сопровождается специальным предисловием автора для русских читателей. Содержит 20 документальных иллюстраций. В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Самоубийство или суицид? Вы не увидите в этом рассказе простое понимание о смерти. Приятного Чтения. Содержит нецензурную брань.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.