Печальные времена - [16]
Поэтому те здравость и правдоподобие, к которым стремится Дамаский при формулировке суждений о феноменах, являющихся условием самих суждений, иной природы, чем та здравость в толковании новозаветного Откровения, к которой в многочисленных расколах и богословских спорах стремилась христианская культура, так как она имеет причиной не только (и не столько) откровенность запредельного, сколько опыт нашего существования, понятый самым возвышенным образом. Запредельное появляется именно отсюда, а не постулируется априорным образом. И религиозные тексты помогают в этом, но не являются источником мысли. Речь идет о двух разных вещах и, если угодно, о двух типах Откровения, содержательно не пересекающихся друг с другом. Установление оценочной градации между ними, очевидно, есть дело личного выбора, но не школьной догматики.
Тем не менее трансцендентизм [88] характерен и для неоплатонизма, и для христианства. Дамаский особенно подчеркивает свои «трансцендентистские» установки, когда ведет речь о знании. Трансцендентное оказывается истоком последнего, поэтому знание имеет для себя основу, пребывает на некоем фундаменте, и, следовательно, при множестве черт, приближающих неоплатонизм к диалектике познающего разума, разрабатывавшейся в ново- европейской (и, в особенности, в немецкой классической) философии, он не становится формой историчного мышления, признающей воипостасность своего начала не сверхсущему, а самому процессу исторического становления. Вот почему Дамаский переходит от рассмотрения того, что принципиально неиерархично, к тонкой диалектической проработке бытийной, а точнее, познавательной иерархии, простирающейся между сверхумопостигаемым и внутрикосмическим. Структура опыта имеет прямое отношение к логосной структуре самого бытия, следовательно, иерархия познавательных способностей оказывается и иерархией того сущего, которое выступает в познании. Едва мы уходим за рамки предельных имен, наш взор наконец обретает предметную область. Та же структура становится и последовательностью моментов религиозного отношения, поэтому каждая бытийная ступень олицетворяется божеством или классом божеств.
Впрочем, это лишь означает, что в познании бытие равно формам мышления. Мир же — даже в своей наиболее очевидной для обыденного ума чувственно данной форме — все равно ускользает от полного его охвата разумом. И неважно, что это ускользание, согласно платонической традиции, связано с материальностью «нашего» космоса: структура опыта такова, что в нем все равно присутствует нечто, не являющееся разумным и несводимое к последнему.
Очевидность присутствия внеразумного в разумном и делает рассуждения Дамаския порой необычайно живыми, насыщенными не только неоплатонической ученостью, но и подлинным философским интересом, сформулированном некогда в, пожалуй, первом философском вопросе, обращенном к миру: «Что есть все?». Может быть, поэтому одним из самых фундаментальных для нашего автора является то определение бытия, которое дает Платон в «Софисте». Напомним, что там, перебрав все возможные варианты такого определения этого ускользающего от словесной оформленности предмета, чужеземец, руководящий беседой, говорит: «Я утверждаю отныне, что все, обладающее по своей природе способностью либо воздействовать на что-то другое, либо испытывать хоть малейшее воздействие, пусть от чего-то весьма незначительного и только один раз,— все это действительно существует. Я даю такое определение существующего: оно не что иное, как способность»[89] Но это означает, что бытие, которое исследует наш автор, не чистой воды умствование, не абстрактно-логическая конструкция, не плод формального анализа познавательного опыта. Будучи способностью, оно заключает в себе внутреннюю динамику, выражающуюся в нашем осмыслении его и не менее отчетливо отпечатывающуюся в нашем существовании, в нашей судьбе. Ускользающее в своей всецелостности от интеллектуального взора, оно тем не менее постоянно при нас и в нас. Сопротивляясь ученому слову, оно парадоксальным образом разворачивается и в слове, и в опыте...— так не об этом ли вещали в течение многих столетий неоплатоники?
Апория как структурный момент в греческих философских текстах
Для искомой нами науки мы должны прежде всего разобрать, что прежде всего вызывает затруднения; это, во-первых, разные мнения, высказанные некоторыми о началах, и, во-вторых, то, что осталось до сих пор без внимания.
Аристотель. Метафизика
Греческий термин απορία (от πόρος, что означает «путь», «переправа», «переход») в философских текстах приобрел особую значимость во времена Платона и Аристотеля. Последний особенно часто употреблял его фактически как технический термин, обозначающий некое затруднение, препятствие, невозможность перейти от именования предмета к его непротиворечивому определению (например, от представления о причине или начале — к его понятию). Это затруднение могло принести свои плоды, если становилось истоком философского дискурса; тогда оно обретало форму божественного удивления (θαύμα), о котором выразительно говорил еще учитель Стагирита

Эта книга об истории и о нас одновременно. Эллада после смерти Александра Великого, Шумер легендарного Гильгамеша, Древний Рим времен трагедии в Тевтобургском лесу — со всем этим читатель встретится в книге. Со всем этим и с самим собой: любящим, ненавидящим, радующимся и печалящимся. Ибо прелесть этой книги не столько в исторической экзотике, сколько в ощущении единства прошлого и настоящего, в романтике искренних чувств и искренних красок.
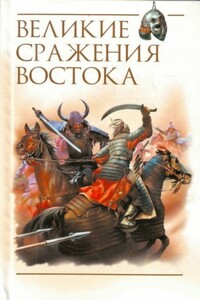
Военная история Востока известна гораздо хуже европейской (во всяком случае, массовой аудитории), хотя по своим масштабам, ожесточенности, вкладу в развитие военного искусства и влиянию на мировую историю многие азиатские сражения превосходят самые знаменитые битвы средневековой Европы – Гастингс и Баннокберн, Креси и Азенкур меркнут по сравнению с войнами арабо-мусульманского мира, Золотой Орды, Индии, Китая или Японии.Новая книга проекта «Войны мечей» посвящена величайшим сражениям Востока за полторы тысячи лет – от грандиозных битв эпохи Троецарствия до завоевания Индии Великими Моголами, от легендарных походов Чингисхана до разгрома японского флота первыми корейскими «броненосцами» (1592 г.), от беспощадной схватки Тамерлана с Тохтамышем до становления сегуната Токугава.
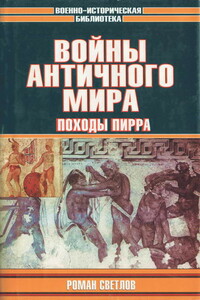
Перед вами первая книга о легендарном греческом полководце царе Пирре. Пирр дважды захватывал Македонию и возлагал на себя диадему Александра. Он принимал участие в крупнейшей битве той эпохи при Ипсе. Пирру довелось столкнуться практически со всеми военными системами времени: от македонских фалангистов и спартанских гоплитов до римских легионеров, ополчений южноиталийских горцев и карфагенского флота. Из большинства сражений он выходил победителем. Как полководца его оценивали очень высоко и современники, и потомки.

Действие мистического триллера «Сон Брахмы» разворачивается накануне Миллениума. Журналист Матвей Шереметьев, разгадывая тайну одной сгоревшей церкви, приходит к ужасному предположению: а что, если конец света уже наступил и нашего мира на самом деле не существует – мы лишь снимся дремлющему Богу?

Эта книга об истории и о нас одновременно. Эллада после смерти Александра Великого, Шумер легендарного Гильгамеша, Древний Рим времен трагедии в Тевтобургском лесу — со всем этим читатель встретится в книге. Со всем этим и с самим собой: любящим, ненавидящим, радующимся и печалящимся. Ибо прелесть этой книги не столько в исторической экзотике, сколько в ощущении единства прошлого и настоящего, в романтике искренних чувств и искренних красок.

Эта книга об истории и о нас одновременно. Эллада после смерти Александра Великого, Шумер легендарного Гильгамеша, Древний Рим времен трагедии в Тевтобургском лесу — со всем этим читатель встретится в книге. Со всем этим и с самим собой: любящим, ненавидящим, радующимся и печалящимся. Ибо прелесть этой книги не столько в исторической экзотике, сколько в ощущении единства прошлого и настоящего, в романтике искренних чувств и искренних красок.

Верно ли, что речь, обращенная к другому – рассказ о себе, исповедь, обещание и прощение, – может преобразить человека? Как и когда из безличных социальных и смысловых структур возникает субъект, способный взять на себя ответственность? Можно ли представить себе радикальную трансформацию субъекта не только перед лицом другого человека, но и перед лицом искусства или в работе философа? Книга А. В. Ямпольской «Искусство феноменологии» приглашает читателей к диалогу с мыслителями, художниками и поэтами – Деррида, Кандинским, Арендт, Шкловским, Рикером, Данте – и конечно же с Эдмундом Гуссерлем.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Лешек Колаковский (1927-2009) философ, историк философии, занимающийся также философией культуры и религии и историей идеи. Профессор Варшавского университета, уволенный в 1968 г. и принужденный к эмиграции. Преподавал в McGill University в Монреале, в University of California в Беркли, в Йельском университете в Нью-Хевен, в Чикагском университете. С 1970 года живет и работает в Оксфорде. Является членом нескольких европейских и американских академий и лауреатом многочисленных премий (Friedenpreis des Deutschen Buchhandels, Praemium Erasmianum, Jefferson Award, премии Польского ПЕН-клуба, Prix Tocqueville). В книгу вошли его работы литературного характера: цикл эссе на библейские темы "Семнадцать "или"", эссе "О справедливости", "О терпимости" и др.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«Что такое событие?» — этот вопрос не так прост, каким кажется. Событие есть то, что «случается», что нельзя спланировать, предсказать, заранее оценить; то, что не укладывается в голову, застает врасплох, сколько ни готовься к нему. Событие является своего рода революцией, разрывающей историю, будь то история страны, история частной жизни или же история смысла. Событие не есть «что-то» определенное, оно не укладывается в категории времени, места, возможности, и тем важнее понять, что же это такое. Тема «события» становится одной из центральных тем в континентальной философии XX–XXI века, века, столь богатого событиями. Книга «Авантюра времени» одного из ведущих современных французских философов-феноменологов Клода Романо — своеобразное введение в его философию, которую сам автор называет «феноменологией события».