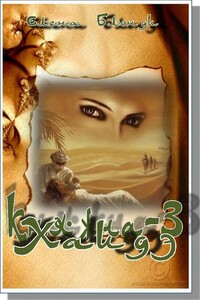Пасифая - [3]
— Выбирай, что лучше, старая головешка, умереть, защищая свою госпожу или сказать правду царю?
— Оставь старуху. Она не солгала. Я слишком высоко стою, чтоб услаждать телом юнцов не царского рода.
Они стояли напротив, одного роста, подав вперед лица, и взгляды летели, будто камни из пращи. Неира сидела на корточках, вжимаясь в стену.
Глаза отвели одновременно, разжали кулаки. Минос уже из двери обернулся, покачал головой:
— Мы оба в ловушке, Пасифая. Уступи. Сними проклятье и, может быть, все будет хорошо.
— Я уступала тебе, Минос. Бессчетно.
— Ну, как знаешь. Я достаточно богат, чтоб рабынь приводили ко мне каждую ночь. А ты скоро высохнешь и скорчишься, как старая олива жарким летом. Мой тебе совет, признай, что я выше. И снимите проклятье с меня, чертовы ведьмы…
Закачались тяжелые занавеси, погнали по душной комнате ветерок.
Пасифая шевельнулась, вытерла пот со лба.
— Неира, помоги мне одеться.
Старая нянька заколола ткань на круглых плечах, поправила складки на высокой груди. Затянула жесткий поясок с золотыми пряжками.
— Подай плащ. И пусть оседлают кобылу. Найди Дедала, он едет со мной.
— Ночь на дворе, царица!
— Молчи. Делай.
Затенькал с переливами дверной звонок. Вера подняла голову, привыкая к тому, что вокруг день и за окном — самолеты. Накинула халат и, туго затянув пояс, расправила плечи, подняла подбородок. Не глядя в глазок, распахнула входную дверь.
— Что?
Под ее взглядом цыганка отступила и оглянулась, на всякий случай проверяя, свободна ли лестница.
— У нас тут курточки, красавица, может купишь? Кожаные, хорошие и недорого.
— А сандал, золотые ожерелья? Кипрское вино? Я пожалуй, возьму бочонок.
Цыганка поспешно улыбнулась, показав нехватку зубов сбоку, и отступила к лестнице.
— И флаконов для масла, стеклянных. Цветных. Сейчас позову раба, он заберет. Ну?
Вера обернулась и крикнула в пустоту квартиры:
— Эфеб, неси корзину и кошелек!
И рассмеялась вслед дробному топоту.
Вернулась в кухню, развязывая на ходу пояс халата, бросила его в коридоре. Встав на цыпочки, достала из шкафчика бутылку с узким горлом и запыленной пробкой. Хотели вместе, но раз уж так…
Села, перелистнула страницу, взялась за стекло высокого старинного бокала. Один остался. Мама когда-то говорила: нельзя пить из одного, — к одиночеству.
Вино было терпкое, темно-красное и сушило губы.
Темный луг уходил вверх от зубчатых кустов на опушке. Под луной поблескивали слезы росы. Сонно за спинами всадников шептались птицы в лесу, там, где у статуи Афродиты на маленькой поляне мраморная поилка большим круглым камнем с ямкой. Проезжая, Пасифая бросила к ногам богини охапку цветов. С лошади не сошла, и Дедал, ехавший рядом, зевая и кутаясь в плащ, покачал головой. Царица сказала сухо:
— У меня свои счеты с любовью, мастер.
Он промолчал в ответ.
Лошади пофыркивали. Наклоняя головы, ухватывали губами верхушки травы.
— Где он? Ты его видишь? — и схватилась за локоть Дедала горячими пальцами.
Бык вышел сбоку, почти рядом. Вырастал, заслоняя звезды. Опускалась большая голова, лунный свет пробегал по отполированным рогам, круглился мощный загривок. Вот переступил и прокатились под матово-белой шкурой волны мышц. Рокотала от тяжкого шага земля.
Пасифая соскользнула с лошади, пошла, собирая подолом росу. Сильнее запахли разбуженные шагами полевые цветы.
Дедал смотрел, намотав на руку поводья царской кобылы.
Услышав шаги, бык поднял голову. Раздулись широкие ноздри. Фыркнул, выпустив две струи мерцающего в темноте пара.
Пасифая подняла руку, плащ соскользнул до плеча, засверкала драгоценная фибула. Глухо стукнул в траве приготовленный ею нож. Поднимать не стала. На фоне белого, огромного, как стена, бока, рука ее темнела веткой плюща. Бык повернул голову и посмотрел на женщину. Рука легла на мокрую шерсть, пахнущую ночной травой. Он прянул ухом, остановил мерное движение челюстей. Пасифая, ведя ладонью по шкуре, встала перед мордой зверя.
— Ты силен и могуч, подарок Посейдона земному царю. Царственный зверь с белой шкурой, рога твои остры, и на концах их луна и солнце. Кто твои отец и мать? Скажи, великан, был ты зачат и лежал ли во чреве? Пришел ли ты в этот мир, упав к ногам матери-коровы? Или и рожден был божественно? Ведь ты вышел из моря.
Бык слушал, мерно дыша; теплый воздух дыхания трогал лицо женщины, как пух тополей по весне.
Дедал застыл на лошади, прислушиваясь к словам.
— Ты должен был умереть, но мой муж, одержимый всеми видами жадности — к славе, женщинам и деньгам, решил, что ты — его богатство. И не позволил тебе вернуться в небесную обитель. Послал на дальние пастбища.
Она отняла руку от морды и пошла по траве, вдоль бока-стены, перебирая пальцами росную шерсть.
— Я вижу, твоя мужская стать поистине царственна, Белый Бык. Там, в горах, нашел ли ты женщину, достойную тебя? Или ты, как и я, считаешь — негоже мешать кровь с грязью?
Хлестнул упругий хвост с копной белых шерстин на конце, и Пасифая засмеялась, приложив руку к ушибленному бедру.
— Я задаю много вопросов? Ну что ж, мой царственный Бык, пасись. Пусть трава этого луга будет сладкой в три твоих последних дня на земле Крита. Прощай.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Вы думаете, что родиться княжной это большая удача? Юная княжна Хаидэ тоже так думала. Пока в её жизнь не вошло Необъяснимое…

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Вы пришли в Мир... Не правда ли, кажется, что Мир всецело принадлежит вам?.. Жизнь - чистый холст, на котором вы пишете картину неповторимой судьбы, одобренную Всевышним. Нет большего счастья, чем своей рукой наносить на бесконечность мазки-мгновения сущего бытия. Неважно, что зачастую незаконченное творение под порывами вселенских ветров опрокидывается на Землю... Вы лишь становитесь сильнее. Вот-вот из-под кисти выйдет шедевр, достойный подражания. Шедевр чьей-то жизни, выписанный извилистыми тропами судьбы.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Никому не дано знать, куда судьба забросит его завтра. Может — на обычную вечеринку, а может — и в иной мир, изнывающий под колдовским гнетом зловещего Владыки, где на всех, не поддавшихся его магии, ведется безжалостная охота, из казней устраиваются шоу, а право выступить в роли палачей разыгрывается в лотерею. Сумеет ли выжить в Скайлене еще вчера обычный парень, сумеет ли одолеть темные чары и одержать победу над силами зла, и что окажется для этого самым важным и нужным: подаренные магией сверхъестественные способности или любовь?
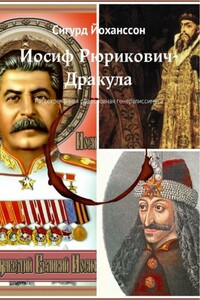
Сталин, Иван Грозный и Дракула — что между ними общего? Все эти люди вошли в историю Европы как самые одиозные и кровожадные правители, поработители народов и тираны. Но не только! Они были родственниками! В книге на основе анализа секретных архивных документов и исторических изысканий приводятся убедительные тому доказательства! Сталин был потомком двух самых жестоких и беспринципных политиков человечества, что и стало роковым для истории России фактором!

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.