Ответ - [15]
— На какой завод?
— На завод вашего дядюшки, где и вы сами, милость ваша, служите. Балинт старательный мальчик, работящий, на него можно положиться.
Профессор на секунду закрыл глаза. — Я в университете служу, милейшая Кёпе, а не у моего дядюшки. К нему же никого пристраивать не буду, ибо на его заводе самая низкая плата во всей Венгрии.
— Это ничего, ваша милость…
— То есть как ничего, — раздраженно прервал ее профессор. — Вы требуете от меня, чтобы я содействовал варварской эксплуатации вашего сына? А почему бы вам не подумать о том, чтобы учить его дальше? Даже если придется реже куриный суп есть!
Минуту спустя длинные ноги профессора прошагали мимо низенького оконца кухни. Луиза снова села за стол, разлила по тарелкам суп. Дверь приходилось держать открытой, в кухне было уже так темно, что даже стулья натыкались друг на друга. — Откуда ты взяла, Луйзика, что завод — его? — спросил Йожи. — Шофер сказывал, будто он туда ездит. — Так ведь, может, просто так, в гости! — Йожи, а ты не мог бы устроить Балинта в Маваут? — спросила Луиза. — Больше я так не выдержу!
Худой, долговязый Йожи молча хлебал суп.
— Больше я так не выдержу, — повторила Луиза чуть слышно. — Не сегодня-завтра возьму вот этих двух за руки, — она кивком указала на девочек, — и в Дунай! По крайней мере, всем мукам конец. Фери да Балинт как-нибудь выкарабкаются и без меня.
Балинт смотрел на дядю. Йожи со стоном положил на стол ложку. — Ох, и хорош супец был! — вздохнул он, облизывая губы. — А Балинта устроить я не могу, Луйзика, меня и самого оттуда выперли.
— Тебя уволили?
— Да.
— За что?
— За оскорбление господина правителя, — пробормотал Йожи, чуть не в тарелку опустив длинный нос. — Мой жилец донес на меня, будто я плюнул перед портретом господина правителя, ну, и суд припаял восемь суток, а когда я, отсидев, надумал приступить к работе, тут-то меня и поперли.
— А вы правда плюнули, дядя Йожи? — с любопытством спросил Фери.
— Так ведь в ладонь себе, сынок, — смешно двигая носом, ответил Йожи, — плюнул, вроде бы припечатал: не позволю, мол, обижать его высокоблагородие, как ни клянут его евреи да коммунисты.
В открытой двери вспыхнула спичка. — Есть тут кто? — послышалось с порога.
Пришел рябой слуга профессора с бутылкой вина, свечой и двадцатью пенгё для госпожи Кёпе, передал привет от его милости. Слуга зажег свечку, оставил на столе вино и деньги и осмотрелся. На кухне с сырыми, в пузырях, стенами и черным от сажи потолком стоял буфет с разбитым стеклом, белый, весь в пятнах, стол, несколько стульев, табуретка и маленькая плита в углу. Еще меньше мебели было в комнате: полированная кровать с периной в полосатом чехле, мешок с соломой на полу да коричневый одностворчатый шкаф с оторванной дверцей, прислоненной тут же к стене. Шкаф был пуст.
Из дворницкой профессор сразу же прошел в свой рабочий кабинет; тяжелый занавес темно-желтого шелка разделял кабинет на две неравные части. В темном, без окон, заднем отсеке — спальне — стояла кушетка, низенький столик на растопыренных ножках и высокая бронзовая лампа под зеленым абажуром; оба окна остались в передней, деловой части кабинета, которая была намного просторнее; здесь вдоль высоких книжных стеллажей расположилось пять или шесть удобных, так и зовущих в свои объятия кресел, обтянутых кожей и шелком, у двери стояла, прислоненная к стене, лестница; в стеклянном, отделанном никелем шкафу поблескивали в свете люстры с восьмеркой свечек-ламп, колбы, мензурки, капельницы самых разных размеров, а посреди комнаты вслушивались в тишину друг друга два сдвинутых вместе письменных стола: маленький изящный столик бидермейерского[11] стиля с множеством ящичков, обслуживавший личную жизнь профессора, и огромный, покрытый черным лаком стол вовсе без ящиков, на котором грудами, стогами громоздились журналы, заметки и научная корреспонденция (впрочем, нужные ему бумаги профессор находил мгновенно и безошибочно). На обоих столах в беспорядке стояли бутылки, пустые или полураспитые, стаканы, рюмки.
Профессор пил много. Были периоды, когда он, увлеченный работой, неделями не прикасался к вину — и в такое время день за днем довольствовался булочкой с маслом да бутылкой содовой, не выходя из университетской лаборатории, там же проводя и ночи на продавленном диване; но, если не считать этих сравнительно редких «сухих» интермедий, он ежедневно, помимо двух-трех кружек пива и фречей[12] без счета, выпивал, дома ли, в гостях ли, по крайней мере, бутылку крепкого вина. При этом винные пары улетучивались у него бесследно, не действуя ни на ноги, ни на язык, ни на мозг. Однако раз в два-три месяца, независимо от хода работы и состояния духа, его буквально охватывала алкогольная жажда, и тогда он пил трое суток подряд. Впрочем, и в эти «мокрые» периоды, всякий раз длившиеся ровно три дня, по нему никак нельзя было определить, что он пьян; огромное тело легко справлялось с алкоголем, профессор держался прямо, говорил четко и внятно, с точностью до минуты являлся на лекции. Его друзья и близкие знакомые лишь по тому угадывали, в какой день он вступил — в «первый» или во «второй», — что профессор, обычно замкнутый и скупой на слова, вдруг становился чрезвычайно общителен, его угловатые резкие манеры смягчались, высокомерие таяло, словно сахар в теплой воде, а лаконичные обычно формулировки вдруг начинали растекаться в многословии. На третий день глаза его тускнели, он начинал сквернословить и к своему столику в корчме зазывал прохожих прямо с улицы. Впрочем, поить он любил и в иное время: каждое утро, перед лекциями, он садился в корчме, напротив университета, чтобы пропустить кружку-другую пива; если какому-нибудь его студенту случалось в это время пройти мимо, профессор, постучав по стеклу, приглашал его и до тех пор поил на голодный желудок, пока юнец не засыпал от столь непривычного завтрака; профессор платил тогда за обед, предстоящий студенту, и, наказав официанту не будить молодого коллегу, пока не проснется по доброй воле, насвистывая, уходил читать лекции. Однажды в такой «третий» свой день он уехал в Стокгольм, куда приглашен был прочесть лекцию, прямо из корчмы, без пальто и без шляпы, в обществе молодой англичанки, с которой в тот вечер познакомился.

В книгу включены две повести известного прозаика, классика современной венгерской литературы Тибора Дери (1894–1977). Обе повести широко известны в Венгрии.«Ники» — согретая мягким лиризмом история собаки и ее хозяина в светлую и вместе с тем тягостную пору трудового энтузиазма и грубых беззаконий в Венгрии конца 40-х — начала 50-х гг. В «Воображаемом репортаже об одном американском поп-фестивале» рассказывается о молодежи, которая ищет спасения от разобщенности, отчуждения и отчаяния в наркотиках, в «масс-культуре», дающих, однако, только мнимое забвение, губящих свои жертвы.
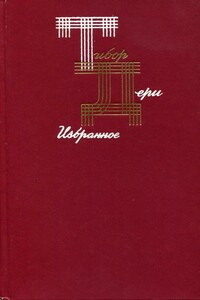
Основная тема творчества крупнейшего венгерского писателя Тибора Дери (1894—1977) — борьба за социальный прогресс и моральное совершенствование человека.

«Ашантийская куколка» — второй роман камерунского писателя. Написанный легко и непринужденно, в свойственной Бебею слегка иронической тональности, этот роман лишь внешне представляет собой незатейливую любовную историю Эдны, внучки рыночной торговки, и молодого чиновника Спио. Писателю удалось показать становление новой африканской женщины, ее роль в общественной жизни.

Настоящая книга целиком посвящена будням современной венгерской Народной армии. В романе «Особенный год» автор рассказывает о событиях одного года из жизни стрелковой роты, повествует о том, как формируются характеры солдат, как складывается коллектив. Повседневный ратный труд небольшого, но сплоченного воинского коллектива предстает перед читателем нелегким, но важным и полезным. И. Уйвари, сам опытный офицер-воспитатель, со знанием дела пишет о жизни и службе венгерских воинов, показывает суровую романтику армейских будней. Книга рассчитана на широкий круг читателей.

Боги катаются на лыжах, пришельцы работают в бизнес-центрах, а люди ищут потерянный рай — в офисах, похожих на пещеры с сокровищами, в космосе или просто в своих снах. В мире рассказов Саши Щипина правду сложно отделить от вымысла, но сказочные декорации часто скрывают за собой печальную реальность. Герои Щипина продолжают верить в чудо — пусть даже в собственных глазах они выглядят полными идиотами.

Роман «Деревянные волки» — произведение, которое сработано на стыке реализма и мистики. Но все же, оно настолько заземлено тонкостями реальных событий, что без особого труда можно поверить в существование невидимого волка, от имени которого происходит повествование, который «охраняет» главного героя, передвигаясь за ним во времени и пространстве. Этот особый взгляд с неопределенной точки придает обыденным события (рождение, любовь, смерть) необъяснимый колорит — и уже не удивляют рассказы о том, что после смерти мы некоторое время можем видеть себя со стороны и очень многое понимать совсем по-другому.

Есть такая избитая уже фраза «блюз простого человека», но тем не менее, придётся ее повторить. Книга 40 000 – это и есть тот самый блюз. Без претензии на духовные раскопки или поколенческую трагедию. Но именно этим книга и интересна – нахождением важного и в простых вещах, в повседневности, которая оказывается отнюдь не всепожирающей бытовухой, а жизнью, в которой есть место для радости.

«Голубь с зеленым горошком» — это роман, сочетающий в себе разнообразие жанров. Любовь и приключения, история и искусство, Париж и великолепная Мадейра. Одна случайно забытая в женевском аэропорту книга, которая объединит две совершенно разные жизни……Май 2010 года. Раннее утро. Музей современного искусства, Париж. Заспанная охрана в недоумении смотрит на стену, на которой покоятся пять пустых рам. В этот момент по бульвару Сен-Жермен спокойно идет человек с картиной Пабло Пикассо под курткой. У него свой четкий план, но судьба внесет свои коррективы.

Книга состоит из романа «Карпатская рапсодия» (1937–1939) и коротких рассказов, написанных после второй мировой войны. В «Карпатской рапсодии» повествуется о жизни бедняков Закарпатья в начале XX века и о росте их классового самосознания. Тема рассказов — воспоминания об освобождении Венгрии Советской Армией, о встречах с выдающимися советскими и венгерскими писателями и политическими деятелями.

Семейный роман-хроника рассказывает о судьбе нескольких поколений рода Яблонцаи, к которому принадлежит писательница, и, в частности, о судьбе ее матери, Ленке Яблонцаи.Книгу отличает многоплановость проблем, психологическая и социальная глубина образов, документальность в изображении действующих лиц и событий, искусно сочетающаяся с художественным обобщением.

Очень характерен для творчества М. Сабо роман «Пилат». С глубоким знанием человеческой души прослеживает она путь самовоспитания своей молодой героини, создает образ женщины умной, многогранной, общественно значимой и полезной, но — в сфере личных отношений (с мужем, матерью, даже обожаемым отцом) оказавшейся несостоятельной. Писатель (воспользуемся словами Лермонтова) «указывает» на болезнь. Чтобы на нее обратили внимание. Чтобы стала она излечима.

В том «Избранного» известного венгерского писателя Петера Вереша (1897—1970) вошли произведения последнего, самого зрелого этапа его творчества — уже известная советским читателям повесть «Дурная жена» (1954), посвященная моральным проблемам, — столкновению здоровых, трудовых жизненных начал с легковесными эгоистически-мещанскими склонностями, и рассказы, тема которых — жизнь венгерского крестьянства от начала века до 50-х годов.