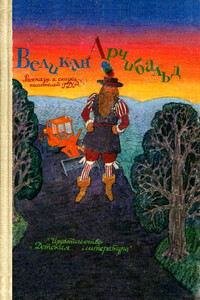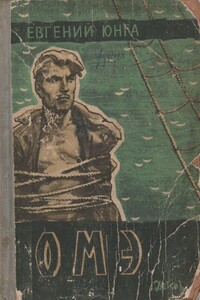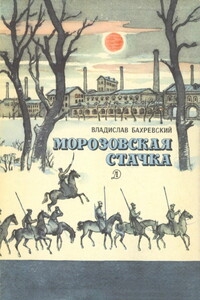Губерт силится улыбнуться:
— Говори, раз ты знаешь!
— Если хочешь знать, он запирается, чтоб ему никто не мешал дрыхнуть. Понял?
Губерт шевелит губами, но не слышно, что́ он говорит. Он и не говорит ничего, он набирается духу и вдруг в диком прыжке вцепляется Канадке в горло. И так и висит на парне, глаза выпучил, но ни слова не произносит. Слышно, как песок скрипит под ногами Экки — он вертится, хочет стряхнуть с себя Губерта, но Губерт держит крепко, словно пантера. Экки хрипит:
— Отцепите вы крысу эту! — Обоими кулаками он барабанит по узенькой спине Губерта, таскает за вихры его, но Губерт держится цепко, а дружки-приятели и не думают помогать своему Экки. Да кто ж себя будет лишать такого удовольствия — они любуются схваткой, такое не часто увидишь!
Конец наступает внезапно. Канадская куртка лопается, Губерт с клочком материи в руках падает на землю, а Экки, потеряв равновесие, еще секунду балансирует на одной ноге и… плюхается в воду, Брызги летят. Дружки Экки хохотать уже не могут, они верещат и валятся в кусты, Потеха!
Губерт, стоя на коленях, видит, как Экки падает в воду, но ему совсем не смешно.
Экки загребает руками, орет. Еще немного, и он выберется на берег… Губерт, словно парализованный, так и застыл на коленях. Шевельнуться не может. Стефан кричит:
— Губерт, эй, Губерт! — и бросается вниз по откосу, через кусты, рывком заставляет подняться Губерта. Оба убегают.
Они бегут вокруг своего дома-башни, добегают до дощатого забора: «Вход запрещен. Родители отвечают за детей!»
Здесь они и прячутся.
Земля холодная, прошлогодняя трава колется. Через щели между досками забора Стефан и Губерт стараются разглядеть, что делается на улице.
Первым из-за угла показывается Экки. Опустив голову, он несется, словно разъяренный бык. Шкура — мокрая! Канадка — разорвана, и Стефан, боясь, как бы Губерт не пустился наутек, хватает его за шею и прижимает к земле.
Выбежав из-за угла дома, Экки застыл. Ну и видик! Мокрая курица! Но ярость велика. Глаза рыщут вокруг, медленно оглядывают забор, за досками которого прячутся Стефан и Губерт. Как по команде, оба затаили дыхание, словно каждая травинка может их выдать.
Из-за угла показались дружки. Не удержавшись, Стефан тихо смеется. Ишь хитрецы! Лисьи морды!
Приятели кричат:
— Ты видел их?
— Убью его! — рычит Экки.
— Сперва поймай, — говорит один из дружков.
— Теперь что? — спрашивает Губерт.
— За вагончик, — говорит Стефан, — вон он зелененький стоит.
И они несутся, низко наклонившись, руки болтаются, чуть не касаясь земли, только в кино так бегают. Шимпанзе еще так ходят.
На дверце вагончика — замок! Ни Артура, ни каноиста не видно. Верно ведь — воскресенье!
— Не найдут они нас здесь? — спрашивает Губерт.
— Не найдут.
— А если?
— Давай вон в тот старый дом пойдем, где мы после гидранта прятались.
Губерт смотрит в ту сторону. Старый дом как стоял, так и стоит, ничуть не изменился — темно-серый, а внутри ледяной холод…
— Нет уж, лучше здесь, — говорит он.
— А потом — нас двое. Пусть попробует наскочить твой Экки. Не посмеет, — говорит Стефан.
— Ты правда так думаешь? — спрашивает Губерт.
— Не думаю, а знаю. Экки ж струсил, когда ты висел у него на шее, — он чертовски боялся, что ему тебя никогда в жизни не стряхнуть.
— Свинья он, — говорит Губерт. — Так врать! Отец в газете работает, он же редактор. Каждое воскресенье задание готовит. Ты-то веришь мне?
— А как же. Ясное дело.
— Это хорошо, — говорит Губерт. — Этот Экки, он… он — сволочь! Надо мне было его камнями забросать, когда он в воде барахтался.
Щурясь, Стефан поглядывает на солнце. Он уже не слушает Губерта. Для него дело кончено. Экки нет, он свое получил. Канадка — в клочья, сам промок до нитки. А Губерт пусть радуется, что сухой тут сидит, в тепле.
Но Губерт опять за свое:
— Сволочь! Подлец! Такое говорить…
— Хватит. Такие, как этот Экки, везде есть.
— Тем хуже.
— Это у них шуточки такие. Сильнее они, вот и острят.
— Пускай в сто раз сильней. В тысячу раз!
— У нас в деревне, — говорит Стефан, — где моя бабушка живет, в школе был такой, в восьмом классе. У него уже усики были. Он всех мучил, кого только мог.
— А тебя? — спрашивает Губерт.
— Меня он не мог. У меня Тассо был.
— Вот видишь, — говорит Губерт.
— Но один раз Тассо со мной не было. Летом во время уборочной, а у нас — каникулы, тогда меня эта сволота и поймала. А еще с ним мелюзга была, всегда за ним бегала. Они ласточкины гнезда разоряли — яйца и птенчиков выкидывали. Ты-то видел таких птенцов? Они голенькие и клюв больше, чем вся ласточка, желтый, широкий.
Губерт даже рот открыл, чувствует, что сейчас будет страшное.
— А этот из восьмого класса, значит, руки мне выкрутил и держит. Я ж бросился на него. А мелюзга, сопляки эти, и яйца и птенцов об стенку риги…
Губерт закрыл рот. Оба молчат. Потом Губерт спрашивает:
— Ну, и чем кончилось?
— Отлупили мы его, — говорит Стефан. — На следующий день. Тассо и я. Прутьями ивовыми отлупили.
— А в школе ничего не было? Чтоб перед всеми?
— Мы его все равно бы отлупили.
Солнце закрыто дымкой, с земли тянет холодом, тепло только от стенки вагончика. Они все еще сидят, но уже не разговаривают.