Огненный палец - [2]
Нелюдимость запечатывала Кочета в кожуру одиночества. Выглядел скуп, неряшлив и надменен. Наталкиваясь на ненависть, сжимался в мятущийся комок — и не порывался мстить, но ужасался человеческому ясновидению. Ибо в себе, как нарыв, сам ощущал иррациональное зло. Ничем не выражаемое, но чуемое, оно искажало лицо Кочета и давало его добродетелям силу взрывчатки, опрокидывающей любое общежитие. Кочет звал это зло гордыней, когда смирял себя сквозь зубы, но оставалось еще и нечеловеческое, поскольку искал хотя бы равных. Еще немного, еще немного, утешал себя всякий раз, когда отчаянье поднималось выше горла. И вот верхом на валике дивана с надсадой вспоминал. Вело ли подобие пути из детства к Кочету нынешнему? Телеологическое обоснование судьбы стерло бы случайность как заборную брань. Бывал избиваем родителями достаточно часто, чтобы горячечно мечтать о самоубийстве. В ритмические периоды скандалов как пассатов прятался на чердаках, в чужих сараях. Или добредал до леса и преображался. Лес напоял его силой для продолжения болезненного сумрачного существования. Бешеную свою волю испытывал на белках, змеях и иной мелочи. Тогда зверек выступал уже продолжением руки Кочета: мог двигать им издали как пальцами в перчатке. Хворост дымился под упорным взглядом.
Кочет виновато усмехнулся. Снисхождение к себе было ему запрещено. Мысленно протянул вектор от девятилетнего поборника берез до обитателя уединенной деревни. Линия, безупречная в своем нисхождении к простому присутствию. Ты не сгинул в лесу и не воскрес Гермесом. Шагал жить по-мужицки тяжело и пьяно. Вот ты здесь после стольких лет беззвучного вопля, будто пятился, оттесненный сюда наконец непереносимой угрозой.
Кочет пронизал почему-то стену и очутился в пустом с фиолетовыми прожилками пространстве, где внизу едва ли была поверхность, а вверху — небо. Наклонился, зачерпнул ладонями воды. Она светилась подвижными искрами. Растерянно опустил руки. Слишком отчетливо стоял в сознании образ утраты. Рискнул шагнуть, невидимое тело его двинулось над невидимой водой, чуть плещущей. Лиловая полоса у горизонта постепенно высветлилась, приобретя облик. Наконец Кочет разглядел в клубящихся массах контуры человеческого лица, знакомого до сладостных слез. Он и поспешил навстречу — но разве не сон всё? То ли брата-близнеца, с которым жил в одно дыхание до судорожной смерти его и после тоже. Когда Кочета гнали, то чуяли волчью близость брата, слишком любимого, чтобы отречься и понарошку.
Образ исчез. Кочет все брел по светящимся водам, и мука неполного узнавания не покидала его, как будто вернувшегося — но не к живым, заговорившего — но не на том языке. С холма увидел селение с готическими шпилями и зубчатой стеной. Глупые декорации, насупился, и городок сник в стайку экваториальных хижин, затем обрел черты российской деревни, против чего Кочет уже не возражал. По хрустнувшим осколкам стекла вступил на изрытую улицу, что напрочь отсекалась за околицей лиловой мглой. Кочет одну за другой растворял скрипучие двери домов, звал двойника, но большие сумрачные комнаты были налиты тишиной. Присел покурить на прогретую лавку с левкоями. Солнце, подернутое синевой, жгло плечи. Внезапно загудел, затрезвонил колокол в обнаружившейся церкви. Кочет направился туда, ощупывая в кармане не то складной нож, не то свечку. В церкви было прохладно и тихо, звон, как мокрый снег, спускался с высоты и таял. По скрипучей винтовой лестнице Кочет поднялся наверх. Тот, что раскачивал колокол, уже ушел. Было печально и сине, звезды горели на расстоянии вытянутой руки. Фосфоресцирующим пятном светилась деревня. Кочет раскинул руки ласточкой, ахнул и прыгнул. Пронизав насквозь игристую, как шампанское, сферу воды, выбрался в безвидную пустоту, исполненную знаков. Будь гностиком, промокшие очи его глядели бы с трепетом затверживания и узнали карту запредельного. Но не требовал ясности, подозревая в ней заговор.
Кочет дрожал то ли в исступлении, то ли от холода. Инфузорией, но среди известного, — едва помыслил, как просыпался, проспался, просеялся как персть. Катастрофичность усугублялась упорствующим в единичности сознанием, чье бормотание раздавалось теперь со всех побережий космоса. Эта агония, развернутая в парсеки, с невообразимыми гирляндами миров, увиденных мельком, обессилила его. Продолжал истошно вопить, уже очутившись на опушке леса. Ветер сдувал снежинки с краев свежего котлована с Кочетом на дне. Держась за ушибленный бок, выбрался на дорогу и побрел в сторону деревни.
Она носила шаль и шла через поле наискосок, легко, совсем не проваливаясь в снег. «Эй!» — крикнул Кочет и подул на пальцы. Блажь — и блаженство — смыло, он мерз. Женщина приближалась, узкие следы ее должны пересечься с провалами валенок Кочета. Когда это случилось, Кочет близко взглянул в юное лицо, еще раз гаркнул «Эй!», но не обернулась, тогда попросту ухватился за лямку ее рюкзака. От рывка потеряла равновесие, и вот уже вместе с Кочетом барахтаются в снегу. Кочет не сомневался, что пьяна, иначе куда бы к ночи к лесу. Помог подняться, без грубости предложил ночлег. Сразу согласилась, зашагала следом, все так же удивительно не проминая наст.
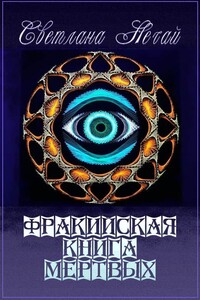
«Как-то раз Борис проговорился, какова истинная цель нашего лингвистического исследования. В исторических записках Диодора Сицилийского он нашел упоминание о фракийской книге мертвых, невероятно древнем своде магических техник, хранимом в неприступных горных монастырях бессов. Возможно, он верил, что именно ее я вынесла из святилища».
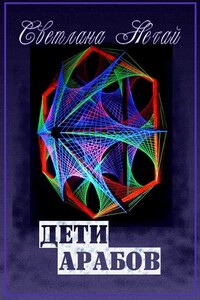
«Я стиснул руки, стараясь удержать рвущееся прочь сознание. Кто-то сильный и решительный выбирался, выламывался из меня, как зверь из кустов. Я должен стать собой. Эта гигантская змея — мое настоящее тело. Чего же я медлю?! Радужное оперение дракона слепило меня. Я выкинул вперед когтистую лапу — и с грохотом рухнул, увлекая за собой столик и дорогой фарфор».

«Существует предание, что якобы незадолго до Октябрьской революции в Москве, вернее, в ближнем Подмосковье, в селе Измайлове, объявился молоденький юродивый Христа ради, который называл себя Студентом Прохладных Вод».

«Тут-то племяннице Вере и пришла в голову остроумная мысль вполне национального образца, которая не пришла бы ни в какую голову, кроме русской, а именно: решено было, что Ольга просидит какое-то время в платяном шкафу, подаренном ей на двадцатилетие ее сценической деятельности, пока недоразумение не развеется…».

А вы когда-нибудь слышали о северокорейских белых собаках Пхунсанкэ? Или о том, как устроен северокорейский общепит и что там подают? А о том, каков быт простых северокорейских товарищей? Действия разворачиваются на северо-востоке Северной Кореи в приморском городе Расон. В книге рассказывается о том, как страна "переживала" отголоски мировой пандемии, откуда в Расоне появились россияне и о взгляде дальневосточницы, прожившей почти три года в Северной Корее, на эту страну изнутри.
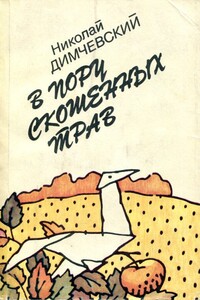
Герои книги Николая Димчевского — наши современники, люди старшего и среднего поколения, характеры сильные, самобытные, их жизнь пронизана глубоким драматизмом. Главный герой повести «Дед» — пожилой сельский фельдшер. Это поистине мастер на все руки — он и плотник, и столяр, и пасечник, и человек сложной и трагической судьбы, прекрасный специалист в своем лекарском деле. Повесть «Только не забудь» — о войне, о последних ее двух годах. Тяжелая тыловая жизнь показана глазами юноши-школьника, так и не сумевшего вырваться на фронт, куда он, как и многие его сверстники, стремился.

"... У меня есть собака, а значит у меня есть кусочек души. И когда мне бывает грустно, а знаешь ли ты, что значит собака, когда тебе грустно? Так вот, когда мне бывает грустно я говорю ей :' Собака, а хочешь я буду твоей собакой?" ..." Много-много лет назад я где-то прочла этот перевод чьего то стихотворения и запомнила его на всю жизнь. Так вышло, что это стало девизом моей жизни...

1995-й, Гавайи. Отправившись с родителями кататься на яхте, семилетний Ноа Флорес падает за борт. Когда поверхность воды вспенивается от акульих плавников, все замирают от ужаса — малыш обречен. Но происходит чудо — одна из акул, осторожно держа Ноа в пасти, доставляет его к борту судна. Эта история становится семейной легендой. Семья Ноа, пострадавшая, как и многие жители островов, от краха сахарно-тростниковой промышленности, сочла странное происшествие знаком благосклонности гавайских богов. А позже, когда у мальчика проявились особые способности, родные окончательно в этом уверились.